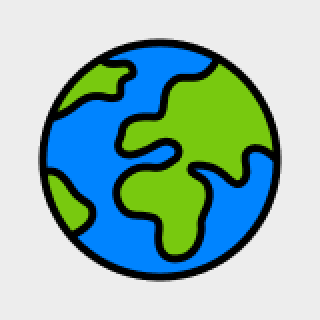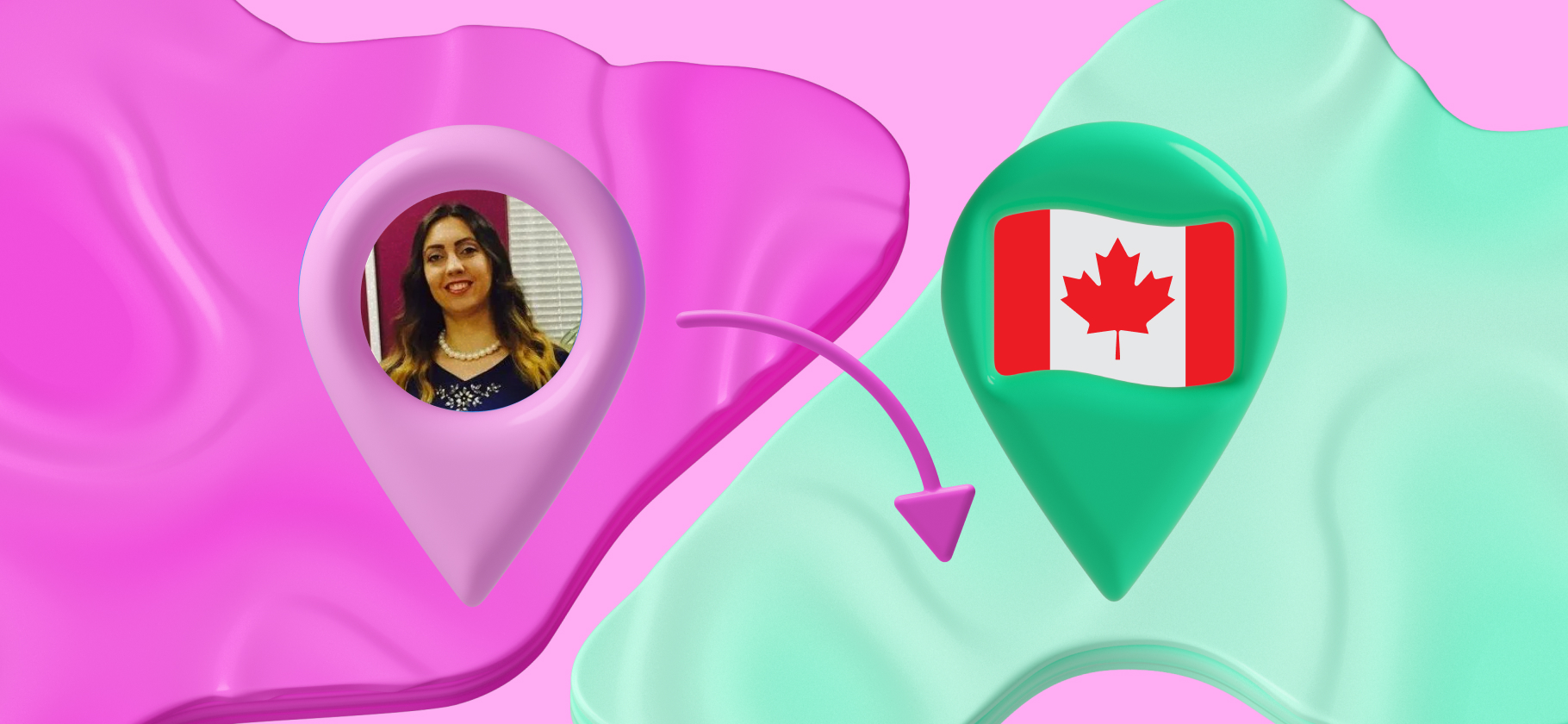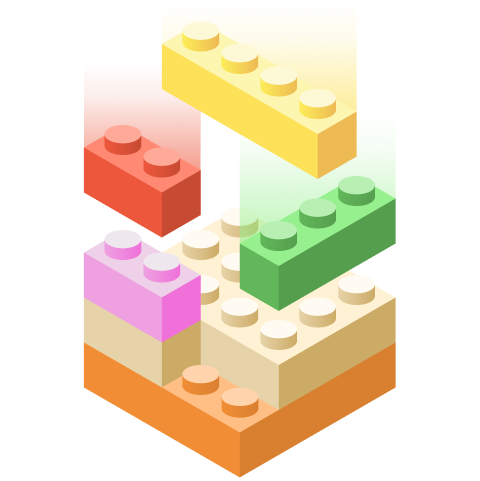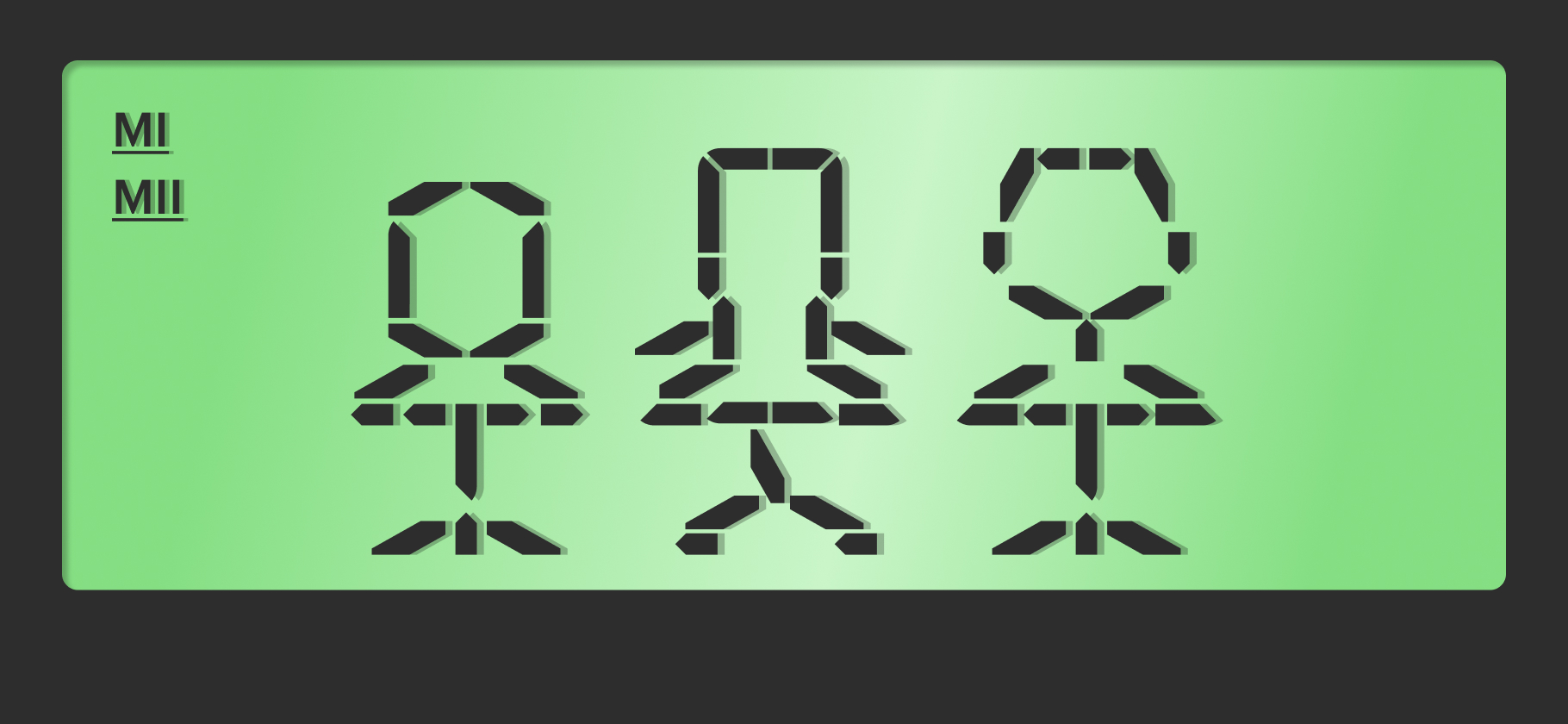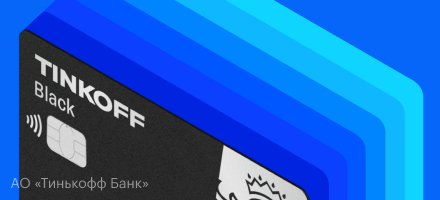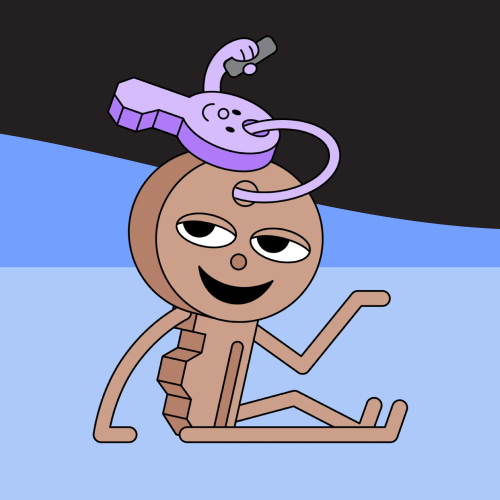Как я 11 лет жила в Японии и США и почему вернулась в Россию
Жизнь за границей — не только романтика. Это еще и проверка на зрелость.
Я была за границей с 2012 по 2023 год: семь лет — в Японии, четыре года — в США. Пробовала себя в учебе и разных профессиях, переживала кризисы, удивительные открытия и меняла планы. Многое в этих странах мне нравилось, но все-таки я вернулась в Россию — и понимаю, что на тот момент это решение было самым правильным.
О чем расскажу
- Переезд в Японию
- Быт и учеба
- Сложности в общении и учебе
- Магистратура и работа
- Почему я решила переехать в США
- Подготовка к отъезду
- Плюсы и минусы жизни в Японии
- Как я временно жила в России
- Переезд в США и первые впечатления
- Быт, учеба и работа
- Сложности с работой
- Плюсы и минусы жизни в США
- Возвращение в Россию
- Поиск себя на родине
- Итоги
Переезд в Японию
В 2008 году я поступила на факультет иностранных языков в вуз в небольшом российском городе — изучала японский как основной и английский как второй. К четвертому курсу я поняла, что для полноценного освоения японского нужно пожить в стране как минимум две недели, ведь, например, местные формы вежливости, которые изучают на высших уровнях, очень сложно понять только по учебникам или фильмам. Надо видеть контекст в реальной жизни.
В 2010 году я заполнила заявку на грант на обучение в государственном вузе в Осаке. Для участия в конкурсе нужно было сдать тест по японскому, английскому языкам и математике, пройти собеседование. В итоге я выиграла грант и в 2012 году вместе с еще несколькими участниками отправилась жить и учиться в Осаку. Тогда не представляла, останусь ли там навсегда.
Мы с другими студентами приехали в апреле и сразу застали тайфун: сильный дождь с ветром били в лицо, вода попадала во все, что не закрыто плащом. Когда шок прошел, мы отправились любоваться сакурой. Это были незабываемые впечатления.
Быт и учеба
Первый год я жила в общежитии. Комната стоила около 200 $ (16 113 ₽) в месяц, что по тем временам было очень гуманно. Она была на одного человека, маленькая — как кухня в хрущевке. Как-то японская преподавательница, заглянув ко мне, воскликнула: «Вот это теснота!» — то есть даже по местным меркам жилье для студентов казалось крошечным. Но помещение было обставлено с умом: помещались кровать, тумбочка, шкаф, стол и стул. Мне особенно нравилось, что в каждой комнате был кондиционер, а еще свой туалет и душ — ночью не приходилось бегать по коридору.
Кухня и столовая были общими на этаж. На кухне — газовая плита, большой холодильник с морозилкой, стол для разделки продуктов и посуда. В столовой стояли круглый деревянный стол на десять человек и рисоварка в углу.
На первом этаже находилась гостиная с телевизором. Там по вечерам проводили вечеринки, а днем — занятия йогой. В остальное время можно было смотреть телевизор фоном, занимаясь учебой. Это помогало привыкать к официальной японской речи и подтянуло мой уровень аудирования.
Бесплатного питания не было, но блюда в университетской столовой стоили недорого. Там ели и студенты, и преподаватели. В обеденные часы случались очереди, но организованные, так что почти все успевали. Чтобы наесться, мне хватало 300—400 JPY (164—218 ₽). Обед в кафе стоил 600—2 000 JPY (600—1 094 ₽). Японская столовая по соотношению цены и качества меня полностью устраивала.
Стипендии 120 000 JPY (65 666 ₽) хватало на жилье, еду и даже на поездку в Россию раз в год. При разумной экономии можно было купить телефон или бытовую технику. Деньги нам перечисляли на банковский счет, который студентам открывали централизованно: кураторы собирали нас в группы, отвозили в муниципалитет, помогали с документами и сопровождали в банк. Уровень японского у всех учеников был разный, так что сотрудники банка, кураторы и тьюторы подсказывали, где и что заполнять.
Я была поражена, насколько слаженно работала система. Университет убедился, что все иностранцы оформили нужное в короткие сроки. Благодаря этому мы без стресса прошли все этапы. Позже я подключала интернет при содействии тьютора — японского студента, которому платили за помощь иностранцам. Это был уже не самый приятный опыт: очереди, быстрая речь, необходимость все сразу понять. Но после первого опыта с банком я уже знала, что не останусь без поддержки.
Первый год в Японии прошел интересно. Я познакомилась с кучей иностранцев и несколькими японцами. В будни в основном изучала язык и культуру, делала домашку. Если оставались время, силы и желание, тусовалась с новыми друзьями.
Но в основном все мы были ботанами и очень много учились. Нас подстегивало окружение: например, девочка из Беларуси была в группе с одними корейцами. Сколько бы она ни штудировала японский, ей не удавалось их догнать: уж очень корейский язык похож на японский. Но в «ботанической» культуре сильно желание быть лучшим и сдать экзамены на все 100 баллов, так что мы не отлипали от учебников.
После первого года, насыщенного яркими впечатлениями, наступил непростой период. Нужно было переезжать в съемную квартиру — ее тоже покрывала программа, но пришлось самостоятельно искать. В итоге я нашла вариант примерно за 400 $ (32 227 ₽).
Процесс дался мне тяжело, к тому же до этого я никогда не жила одна. Накрыло внезапное сильное одиночество. Я стала часто думать о возвращении в Россию или переезде в другую страну. Но понимала, что, если брошу учебу, это будет большая упущенная возможность.




Сложности в общении и учебе
Было сложно вливаться в местные сообщества. Университет проводил приветственные вечеринки для иностранцев, в которых участвовали японцы. Я думала, что теперь наконец смогу с ними подружиться. Но не тут-то было. Например, я сама подходила знакомиться, спрашивала, на каком они факультете, в каких спортивных студенческих секциях занимаются. А японцы не проявляли никакого энтузиазма и задавали общие вопросы: как мне Япония, умею ли читать базовую японскую азбуку, когда поеду в родную страну. Тогда почувствовала сильное разочарование: я приехала в эту страну ради того, чтобы просто говорить ни о чем?
Позже поняла, что первое время неуклюже вела диалог, из-за чего не удавалось создать комфортную среду для меня и собеседника. Например, в обсуждении я могла резко не соглашаться там, где японец оставил бы пространство для другого мнения. Важно уметь «читать воздух» — японцы называют это «кууки о ему». Нужно внимательно наблюдать, будут ли другие высказываться, прежде чем говорить свое мнение. Если спорить, то очень мягко и только с равным.
Еще для общения среди японцев очень важна принадлежность к группе: кружок по интересам в университете, комитет соседей, выпускники школы или вуза. Знакомые подсказали, что стоит ходить на спортивные или художественные секции. Там действует строгая иерархия, которая сильна в местной культуре: новички уважают тех, кто на год старше, и учатся у них. Может быть, если бы я ходила не только на вечеринки для иностранцев, но и на встречи по интересам, было бы больше шансов общаться с новичками-японцами на равных.
Ко всему прочему у меня появился комплекс самозванца. Например, на занятиях по изучению разных аспектов японского языка было много студентов из Китая и Кореи, мы писали много эссе. Я была в группе с китайцами. Когда они зачитывали свои работы, многое мне было непонятно. Стало стыдно за недостаточный уровень владения языком — он тогда был B2.
Со временем мне стало легче. Я начала волонтерить в ассоциации иностранных студентов, которая помогала адаптироваться в Японии. Там я могла быть собой, потому что находилась среди таких же иностранцев, пытающихся понять свое место в мире. Мы общались по-английски и иногда по-японски, организовывали приветственные вечеринки, дружеские спортивные мероприятия, презентации культур.
Постепенно я стала лучше видеть закономерности в японской культуре, приобрела больше друзей среди японцев и иностранцев, начала чувствовать к себе теплое отношение — больше, чем формальное общение, и уже точно не поверхностное.


Магистратура и работа
В 2015 году я начала готовиться к выпуску из бакалавриата и писать диплом на тему двуязычия детей-иностранцев. Для этого участвовала в исследованиях, изучала, насколько важно детям сохранить родной язык. Воодушевившись темой многоязычия, я серьезно задумалась о продолжении обучения в магистратуре в Японии.
В то же время решила рассмотреть варианты работы: местная корпоративная культура привлекала меня своей организованностью, возможностью путешествовать и быть частью общества. На приеме у карьерного консультанта в университете я сказала как есть: на 40% я за работу в японской компании и на 60% — за магистратуру. Консультант предложила очевидную, но полезную вещь: раз есть сомнения, опросить людей, которые работают в японских компаниях, и тех, кто учится в магистратуре.
Еще до того я начала проходить сюкацу — это система отбора кандидатов в разные компании, которая длится год. В это время студенты-старшекурсники обращаются в разные организации, изучают их, проходят интервью и письменные тесты. Предполагается, что студент получит несколько предложений трудоустройства.
Плюс такой системы — теоретически можно трудоустроиться без опыта. Но шансов на это мало. В одной компании мне сказали, что лингвисты не очень востребованы: будь я экономистом или юристом, имела бы больше шансов. Главный минус системы сюкацу — она отнимает много сил и времени. Старшекурсники, которые и так заняты дипломными работами, испытывают дополнительный стресс.
В итоге я забросила сюкацу и поступила в магистратуру. В это время большую часть дней жила в лаборатории. Аспирантам отводили две классные комнаты с общими компьютерами, личными шкафчиками для распечаток и книг, чайником, микроволновкой и платным принтером.
Я писала научную работу и исследовала мнения родителей иностранцев о том, каким языкам они хотели бы обучать своих детей. Любопытно было, насколько они хотят изучать японский, как пытаются сохранить родной — например, русский, китайский и другие среди моих респондентов. Мне нравилось заниматься научной работой, а один из супервизоров назвал меня «исследователь, который пока не вылупился из яйца». Это комплимент.
Из-за многочасового сидения за компьютером начали твердеть плечи. Мне помогали онсены — горячие источники. Еще я стала чаще гулять и кататься на велосипеде. Иногда помощь в организации конференций ощущалась как физическая активность. И даже готовка. Думала тогда: «Ого, есть такая работа, а не только печатание и чтение».
В магистратуре моя стипендия была уже 140 000 JPY (76 610 ₽). В целом денег на жизнь хватало. Около 66 000 JPY (36 116 ₽) уходило на небольшую квартиру, еще 60 000 JPY (32 833 ₽) — на еду, оставалось на транспорт, билеты со скидкой, одежду и периодическое питание в кафе.
Для магистерского исследования я нашла на форумах и через друзей подработки. Например, в детских садах мы с детьми пели песни на английском, читали книги с картинками и играли. Еще я подрабатывала в агентстве устных переводов и волонтерила: помогала организовывать университетские фестивали, иногда сопровождала туристов по Японии, выступила на двух научных конференциях.
Также я преподавала японский иностранным студентам, которые приехали недавно. В понедельник опытный профессор объяснял новую тему, во вторник я делала со студентами упражнения и проверяла домашние задания, в среду мой коллега из магистратуры проводил диктант, в четверг другой профессор объяснял новую тему. Подработка приносила 50—200 $ (4 028—16 113 ₽) в месяц, но чаще всего — около 70 $ (5 639 ₽).

Почему я решила переехать в США
За время обучения и работы в стране я выучила японский язык до уровня свободного владения, но не носителя. На втором году магистратуры я начала рассматривать разные варианты. Хотелось продолжать академическую карьеру, но сделать это в моем университете не получалось, так как закончился грант. Можно было опять начать сюкацу.
В Японии есть разные возможности легализоваться. Для квалифицированных специалистов из-за рубежа действует балльная программа для получения вида на жительство. Учитываются возраст, финансовое состояние, уровень знания японского языка, наличие образования в Японии и докторской степени. Хотя я набирала хорошие баллы по академическим достижениям и возрасту, не проходила по финансовым показателям. В общей сложности требовалось хотя бы 70 баллов, а я набрала 50.
Я поняла, что у меня не было серьезного намерения остаться в Японии. Скорее хотелось открывать мир и себя. Поэтому я не углублялась в тему получения ВНЖ, а стала думать о том, где еще пожить. Один из супервизоров сказал: «Живешь в двух странах — считаешься международным человеком. А если в трех, прививается глобальное мышление».
Через преподавательницу я нашла программу ассистентуры в университете в США в штате Индиана. Это тоже грант, учебу в магистратуре в этом случае обеспечивает университет, есть зарплата как у ассистента преподавателя. Перелет нужно было оплачивать самостоятельно.
Для подачи заявления на программу нужно было получить три рекомендации от профессоров, сдать языковые тесты по японскому и английскому языкам, приложить сканы дипломов и примеры академических работ на каждом языке. А также написать мотивационное письмо, почему я хочу учиться у них и какого результата планирую добиться. В феврале 2019 года я узнала, что получила грант.
Подготовка к отъезду
Преподаватели в Японии знали, что я уезжаю, нужно было только сообщить об этом в деканат, чтобы мне подготовили документы. В марте был выпускной в магистратуре. По окончании обучения по условиям программы мне предоставили авиабилет в Россию.
За месяц до выезда из квартиры я по обычной почте отправила письмо в управляющую компанию, через которую арендодатель сдавал жилье. Вскоре получила уведомление о дате и времени визита представителя для осмотра квартиры. Нужно было успеть избавиться от всех вещей: раздарить, распродать, что-то переслать по почте в Россию, а остальное выбросить.
В Японии маленькая площадь и большое количество мусора, так что вещи на утилизацию нужно было рассортировать на сжигаемый и несжигаемый мусор. Из несжигаемого мусора дороже всего было выбросить матрас — это стоило мне 2 000 JPY (1 094 ₽), как обед в хорошем ресторане. Я не могла исподтишка выкинуть бесплатно: нарушителя всегда найдут, да и просто не хочется в этой стране делать гадости.
Представитель компании осмотрел квартиру и сказал, что нужно покрыть ущерб. Были потертости на полу, так как я не всегда стелила ковер. А на стене остался след от упавшей перекладины, на которую я вешала вещи. Сотрудник сказал, что в общей сложности за все мне придется заплатить 70 000 JPY (38 305 ₽) — это две месячные арендные платы.
Заключительные дни в Японии я пребывала в каком-то хаосе. Но кроме забот встречалась с друзьями. Когда освободила квартиру, планировала жить в дешевых хостелах, а последнюю ночь провести в гостинице. В итоге подруга-японка предложила мне остаться у них с мужем на несколько дней до вылета.
Расставаться с Японией было тяжело, хотя я всегда считала, что могу быть солдатиком, который все вынесет. Но я летела в Россию с чувством спокойствия и большой благодарности.
Плюсы и минусы жизни в Японии
Плюсы. Стремление к гармонии в отношениях между людьми делает жизнь в Японии очень комфортной. Некоторые люди, услышав мои рассказы о бесконфликтности японцев, стали спрашивать, как им вежливо ответить в разных ситуациях.
Благодаря заботе японцев о чистоте и красоте окружающего их мира я получала эстетическое удовольствие почти каждый день — от посещения кафе, прогулок по улицам. Кстати, в японском языке «чистота» и «красота» обозначаются одним и тем же словом.
Я поняла, что такое практика благодарности в японском понимании. Это когда встретил человека и говоришь: «А помнишь, ты меня тогда очень выручила — рассказала, что вкусного поесть в столовой вашего кампуса?» Если этот эпизод не вспомнить, будет странно. Все равно что не сказать «спасибо» сразу после какой-то услуги. Это не про «выручил, дай еще», а просто такой способ благодарности. Мне понравилось вспоминать приятности при новых встречах. Создается ощущение теплоты и безопасности, поднимается настроение.
Минусы. Очень сложно заводить новых друзей. Понятие «друг» в Японии и России сильно различается. В России больше важна личная симпатия. В Японии еще важна возрастная иерархия, принадлежность к общим организациям. Не скажу, где лучше, а где хуже: это дело вкуса. Я благодарна японцам и японкам, которые видели во мне подругу. Но у меня все-таки больше друзей среди других иностранцев.
Не могу сказать, что это характерно только для Японии. Китаянка в России тоже мне говорила, что русским с ней не очень интересно, она чувствовала себя одиноко. А вот у иностранцев общие задачи.
Иностранец в Японии выделяется как зеленая туфля рядом с группой красных. Из-за этого иногда они получают больше внимания. Интровертов это может смущать. Я тоже порой стеснялась из-за непроизвольных взглядов. Не хотелось особого внимания.
Есть неудобства из-за нехватки места. В Осаке это менее заметно, а в Токио очень тесные квартиры, особенно студенческие. Много квартир на одного — это помещение на 18—30 м².
Как я временно жила в России
В Японии учебный год заканчивается в марте, а в США начинается в августе. Благодаря этому у меня была возможность пожить в России, так что в марте 2019 года я сняла комнату в Москве на несколько месяцев.
Во время учебы в Японии я каждый год приезжала в Россию. Тогда мне казалось, что русская еда очень дешевая: в Осаке это была настоящая экзотика. Помню, как однажды увидела в кафе две конфеты «Аленка» за 500 JPY (273 ₽) и решила, что в Японии переплачивать не буду, наемся ими в России. К слову, со временем в Японии начали появляться «Сникерсы» и другие привычные нам сладости, но большой популярности они не получили. У японцев другой вкус: им нравятся почти несладкие десерты, которые мне казались пресными.
Когда я приехала в Россию в 2019 году, заметила, что здесь стало больше японских брендов и отсылок к стране. Я даже завела фотоальбом «Япония в России», в котором коллекционировала фотографии вывесок и товаров из Японии. Тогда еще онигири не продавали в каждой «Пятерочке» или «ВкусВилле».
Я скучала по Японии. Иногда сомневалась: правильно ли делаю, что еду в Америку? Оттуда тоже вернусь или поеду дальше, в Европу? Иногда задумывалась, не остаться ли в России. Но мне казалось, что здесь смогу использовать лишь часть своего опыта. Мне хотелось быть полезной в разных странах, соединять знания и впечатления в творческих проектах.

Переезд в США и первые впечатления
Виза. Американскую визу оформлять долго, поэтому я подала документы заранее, в апреле. Знала, что в посольство США нельзя брать телефон, поэтому пошла вместе с близким человеком, чтобы оставить у него вещи. В очереди стояла около часа — людей было много, но мы двигались. Посольство открылось в 09:00, и примерно в 10:00 я уже отдала документы.
Само интервью прошло быстро. Меня спросили, в какой университет еду и с какой целью. Думаю, помогло то, что мой вуз был крупным и известным. Через несколько недель мне одобрили студенческую визу.
Перелет. В августе 2019 года я прилетела в США. Приземлилась в международном аэропорту Чикаго. На таможне офицер вдруг спросил: «Элбаса?» — я даже не сразу поняла, что он имел в виду колбасу. В регионе, как я потом узнала, много сельского хозяйства, и к ввозу продуктов относятся строго. У меня с собой еды не было.
В аэропорту я купила чипсы с хумусом за 7 $ (563 ₽) и пошла искать автобус, который должен был отвезти меня в кампус. Дорога заняла около трех часов. По пути я смотрела в окно: запомнила бескрайние кукурузные поля и ветряные мельницы. Уже тогда почувствовала, что я совсем в другой стране.
В первые дни я много гуляла по территории кампуса и окрестностям. Все говорили, что США — страна для автомобилистов, а пешеходам и велосипедистам неудобно. Я бы не сказала, что все так плохо: до ближайшего магазина дойти можно было, но дорога пролегала через огромную парковку — примерно как у нас перед гипермаркетом. Мне сразу стало не хватать уютных маленьких магазинов у дома, как в Японии или России.
Зато поразило, какие в США музеи и природные комплексы — современные, интерактивные и доступные. Для студента это отличный способ сменить обстановку, не испытывая чувства вины за то, что тратишь время не на учебу. В первый же месяц я сходила в океанариум при зоопарке в Индианаполисе. Там даже можно было потрогать маленьких акул — в бассейне с низкими бортиками плавали коричневатые акулы, совершенно неопасные. Было неожиданно и интересно.



Быт, учеба и работа
Университет помогал с выбором комнаты в общежитии, но не оплачивал ее. Я жила в одном блоке на две комнаты: моя соседка занимала более просторную, а мне досталась часть размером с коридор в хрущевке. На аренду и коммуналку в месяц я тратила 570 $ (45 924 ₽). Позже переехала в просторную комнату с кухней-столовой и небольшой спальней в том же комплексе — это стоило 750 $ (60 427 ₽) в месяц.
В общежитии я жила три года, а затем его решили модернизировать, и я переехала в съемную квартиру. Платила ежемесячно 700 $ (56 398 ₽) за аренду, еще 200 $ (16 113 ₽) уходило на коммуналку.
До мест проведения занятий добиралась пешком около 20 минут. Потом попробовала ездить на велосипеде. Еще по кампусу ходил бесплатный для студентов автобус, но расписание было не самым удобным.
Вместе с коллегами-японцами я открыла счет в банке, отделение которого находилось у нас в кампусе. Из документов понадобились паспорт, студенческий билет и справка о зарплате. Как ассистент преподавателя, я получала 1 800 $ (145 025 ₽) до вычета налогов. Но сколько точно уплачивала и получала — уже не помню, к тому же сумма всегда была разная.
Так как я люблю и привыкла питаться вне дома, денег хватало только на квартиру и еду, а на развлечения и поездки почти не оставалось. Свободное время я проводила в раздумьях, что делать с диссертацией, и за непростыми домашними заданиями. За четыре года я всего несколько раз съездила в другие города: Нью-Йорк и Вашингтон.
Первый год в американском университете оказался непростым. В Японии занятия в магистратуре проходили раз в неделю, а в Штатах — по два-три раза, плюс обязательный дополнительный иностранный язык. Я выбрала арабский. Занятия были интенсивными и помогли мне понять, как в США преподают языки. Этот опыт пригодился позже, когда я сама начала преподавать японский.
Я училась очно и фултайм и работала ассистентом преподавателя парт-тайм, 20 часов в неделю. Преподавание японского входило в мои обязанности ассистента. Это обеспечивало мне финансирование учебы и дало ценный опыт самостоятельной работы со студентами.
В группе были американцы и иностранцы — китайцы, европейцы и даже девушка из Великобритании, наполовину японка. Она приехала по обмену, почти не знала языка своих предков и начала учить его на моих занятиях. Это произвело на меня сильное впечатление: я сама когда-то начинала с нуля, а теперь могу учить других, помогать им найти связь со своими корнями.
Мне очень помогали опытные кураторы. Они наблюдали за моими уроками, давали советы, помогали с оцениванием студентов и разбором системы отчетности. Поначалу было непривычно разбираться в местных правилах подсчета баллов, критериях и электронных системах, но со временем все стало понятно. Студенты тоже удивили: многие были невероятно трудолюбивыми и мотивированными, хотя раньше я слышала совсем другие мнения о них. Я снова убедилась, что люди везде разные.
Еще я участвовала в работе ассоциации аспирантов. В один год даже организовала студенческий симпозиум. Нужно было собрать заявки, составить программу, распределить темы так, чтобы учесть интересы участников. Этот новый опыт напомнил мне, как я раньше организовывала мероприятия в Японии. Было приятно снова работать в интернациональной среде и пробовать себя в роли организатора.
С научной работой все складывалось сложнее. В первый год моя руководительница была в отпуске, и выяснилось, что наши темы исследований хоть и близки, но не совпадают. Она помогла мне подготовить доклад для конференции в Принстоне, но дальше совместной работы не получилось. Я чувствовала себя немного потерянной и долго не могла понять, как связать свои прежние интересы с направлениями исследований здесь. Иногда казалось, что я в тупике.

Сложности с работой
На третьем году учебы я стала больше задумываться о будущем в академической среде. Тогда начала спрашивать о возможности перейти в другую научную группу, но делать это было уже поздно. В итоге я доработала и доучилась год в университете и параллельно искала новые возможности.
Этот кризис заставил меня пересмотреть свой путь. Я вспомнила свою детскую заинтересованность биологией и спрашивала коллег, переходил ли кто-то с филологии на биологию. Оказалось, таких немало: в США гибкая система позволяет менять направление. Я пробовала посещать биологические курсы, но стеснялась официально договориться, теряла мотивацию и чувствовала себя не на месте: казалось странным быть «такой взрослой» и все еще не определившейся.
Я написала научной журналистке из университета, спросила о ее карьере. Она брала интервью у ученых и писала о сложном простыми словами. Такой подход мне нравился: я всегда любила объяснять и заинтересовывать студентов, и теперь хотелось бы это делать для читателей. Я дошла до финала отбора на оплачиваемую стажировку в крупном издательстве, но зарплата едва покрывала бы аренду, к тому же я не была уверена, продлят ли визу, ведь деятельность должна быть связана со специальностью.
Я также попробовала устроиться на работу в японский отдел библиотеки и подала заявку на начальную должность в музее естественной истории, но ответы так и не пришли. Еще в то время посещала курсы по социологии и письму, где мы учились писать автобиографии и обсуждали, как законы отражают идентичность американцев. Это оказалось мне по душе.
Когда заканчивался контракт с университетом, я подала документы на продление визы, полагая, что проще остаться, чем уезжать. Я искала работу в США, Японии и Европе, не исключала и возвращение домой. Когда контракт закончился, виза оставалась на рассмотрении, и по закону я могла оставаться. Друзья говорили, что одобрение обычно занимает месяц, но в моем случае оно затянулось.
Я чувствовала себя потерянной. Это было не столько выгорание или культурный шок, сколько кризис профессиональной идентичности и переосмысление приоритетов. Я начала серьезнее относиться к идее вернуться в Россию: дома не нужно объяснять смену специальности иммиграционным властям, и, хотя будущее оставалось туманным, оно казалось более предсказуемым и полным возможностей.
В какой-то момент я начала чувствовать, что выгораю. Мне все сложнее было представить, чем хочу заниматься в США. Возможно, это был внутренний кризис, когда понимаешь, что пора искать свой путь заново.

Плюсы и минусы жизни в США
Среди плюсов я отметила разнообразие взглядов: у каждого свое мнение, и это воспринимается как норма. Понравилась легкость в общении: можно запросто получить комплимент о сумке или дизайне — экстравертам это точно понравится.
В США ценят индивидуальный выбор. Когда я обсуждала с карьерным консультантом свою идею сменить филологию на биологию, она выглядела немного удивленной, но не стала обесценивать мои планы и не спрашивала: «Ты уверена, что справишься?» В культуре, где почти все фильмы и книги внушают, что усердие приводит к успеху, это вполне естественная реакция.
Недостатки перевешивали. Я ощущала нестабильность в иммиграционных правилах — одной из центральных тем в американской политике. На семинарах нас сразу предупреждали, что законы часто меняются. Это вызывало тревогу: все ли я сделала правильно, не упустила ли важных изменений, а вдруг выбранный статус отменят? Эти мысли постоянно крутились в голове.
Кроме того, рынок жилья вокруг университетов явно не на стороне съемщиков. Арендодатели не проявляли особой гибкости: за полгода до окончания контракта мне прислали уведомление о повышении платы на 100 $ (8 056 ₽). Правда, предложили «льготу»: если решу продлить заранее, поднимут «всего лишь» на 50%. Для аспиранта без прибавки к зарплате это все равно было ощутимо. Газеты в кампусе регулярно писали о том, как тяжело аспирантам жить на низкие стипендии, но из-за высокого спроса арендодатели не считали нужным учитывать эти обстоятельства.
Еще момент — если нет машины, повседневная жизнь становится сложнее: общественный транспорт развит слабо, и многие районы без автомобиля попросту неудобны.
Возвращение в Россию
Я обсудила свое положение с близкими. Они делились опытом, не давая прямых советов, и это помогло. Один знакомый сказал мне: «Мои решения редко кажутся логичными другим, но они правильные для меня». Я взвесила все за и против, прислушалась к внутреннему голосу и поняла, что, несмотря на престижность карьеры в США, это не лучший выбор для меня. Так, в июне 2023 года я решила вернуться в Россию.
О выселении сообщила компании, которая предоставляет жилье. В отличие от Японии, осмотр квартиры они производили без меня: сказали, что такие у них правила. За поломки, с которыми я была не согласна, нужно было заплатить 200 $ (16 113 ₽). Так, ковролин был чистым, но они сказали, что заменили его. Я могла предоставить фото на момент отъезда, чтобы оспорить сумму ущерба. Но мне хотелось тратить время на новую жизнь, а не на старую, и я не стала спорить.
В середине июля 2023 года я возвращалась в Россию с пересадкой в Ереване. Семья одноклассницы устроила мне экскурсию по городу и его окрестностям. Была жара, и как раз в этот день отмечали Вардавар — меня обильно обливали водой на улицах. Вспомнились детские лагеря и праздники Нептуна.
Вернувшись в Россию, я отметила: как же близко и удобно расположены магазины и как здесь ощущается история. В США знакомые называли здания 100-летней давности старыми, а в России прошлое буквально вокруг тебя. Это ценно.
Поиск себя на родине
По возвращении я рассматривала международные компании: хотелось сохранить ощущение «человека мира», но не была уверена, подходит ли мне корпоративная среда. У меня не было опыта работы в больших компаниях, только рассказы друзей о конкуренции и интригах. Так как жизнь за границей помогла разрушить стереотипы о других странах, я понимала, что нужно самой проверить, какие из этих представлений о корпорациях верны.
Друзья советовали отдохнуть, но мне не сиделось на месте. Я вернулась в родной город, оформила самозанятость и начала с простой работы — занималась выкладкой в торговых залах в супермаркете, собирала заказы, помогала на кассах самообслуживания.
Работа позволяла жить здесь и сейчас: чуть отвлечешься — и придется переделывать, поэтому все выполняешь максимально сосредоточенно. Это отвлекало от грустных мыслей о том, как было и чего хотелось, что получилось, а что еще впереди. К тому же работа дала мне ощущение нужности: когда я не знала, интересно ли научной руководительнице и другим преподавателям со мной, я чувствовала, будто не нужна на этом месте. А в выкладке товара, как правило, после каждого рабочего дня благодарили. Хотя, конечно, не всегда.
Зарплата была минимальной — от 200 ₽ в час, иногда даже 100 ₽, но затем стали платить 300 ₽. Денег едва хватало на жизнь, и это вызывало стыд. Но при мысли о «серьезной» работе появлялся страх снова пройти через длинные ожидания и разочарования, как в США.
Когда первые тревоги утихли, я сформулировала для себя главную цель: давать людям лучшее, что могу, и получать взамен лучшее, что мир готов предложить. Мечтаю стать какехаси — «мостиком между культурами», помогать людям пройти путь, похожий на мой, и продолжать открывать мир и себя в нем.
Я пробовала себя и в роли экскурсовода по родному городу — друзья вдохновили развиваться, но чувствую, что нужно подтянуть предпринимательские навыки, чтобы уверенно предлагать собственные туры. Потом я добавила репетиторство, попробовала писать статьи и продающие тексты. Теперь в планах — найти удаленную работу, где можно приносить пользу людям. Параллельно хочу продолжать репетиторство и потихоньку развиваться в психологии.
Итоги
11 лет жизни в Японии и США изменили мой взгляд на мир. Я стала задавать себе другие вопросы. Раньше думала: «Где транспорт лучше — в России, Японии или США?» А теперь спрашиваю: «Почему здесь предпочитают такой транспорт? Как это связано с образом жизни?» Я увидела, что людей больше объединяет, чем разделяет.
Еще поняла, что подходы к работе и образованию очень разные. В Японии это путь к взрослости и верности выбранному делу. В США — функциональность: умеешь решать задачи и подходишь по навыкам — бери краткосрочный контракт. И в Японии, и в США я убедилась: важно критически смотреть на информацию о странах и проверять, применимы ли чужие советы у нас.
Жизнь за границей помогла лучше узнать, какой я человек. Ты как будто теряешь себя и находишь заново: окружение и ценности вокруг другие, сильные стороны видны ярче, но и слабости тоже. За рубежом мои умения выступать и применять языки приносили быстрые результаты, но и промахи в наблюдательности сразу были заметны. В общем, опыт жизни за границей учит быть внимательнее, помогает понять других и себя, дает силы быть собой и строить мосты между мирами и людьми. Это непросто, но бесценно.
Все важное про эмиграцию и релокацию — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе: @t_emigration