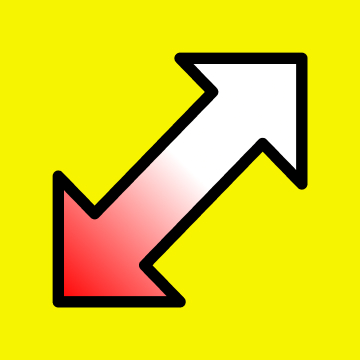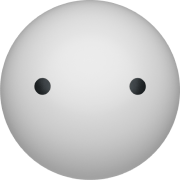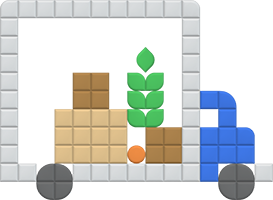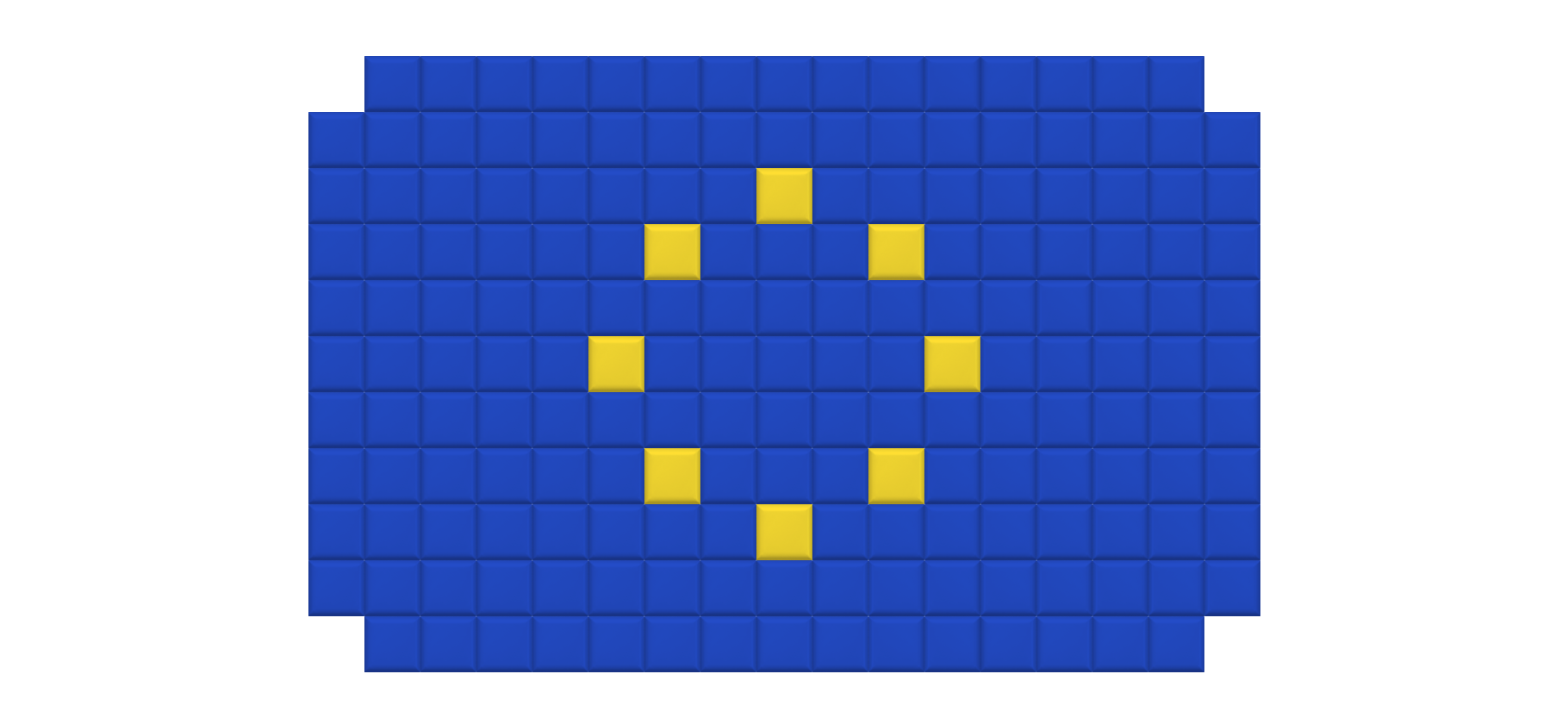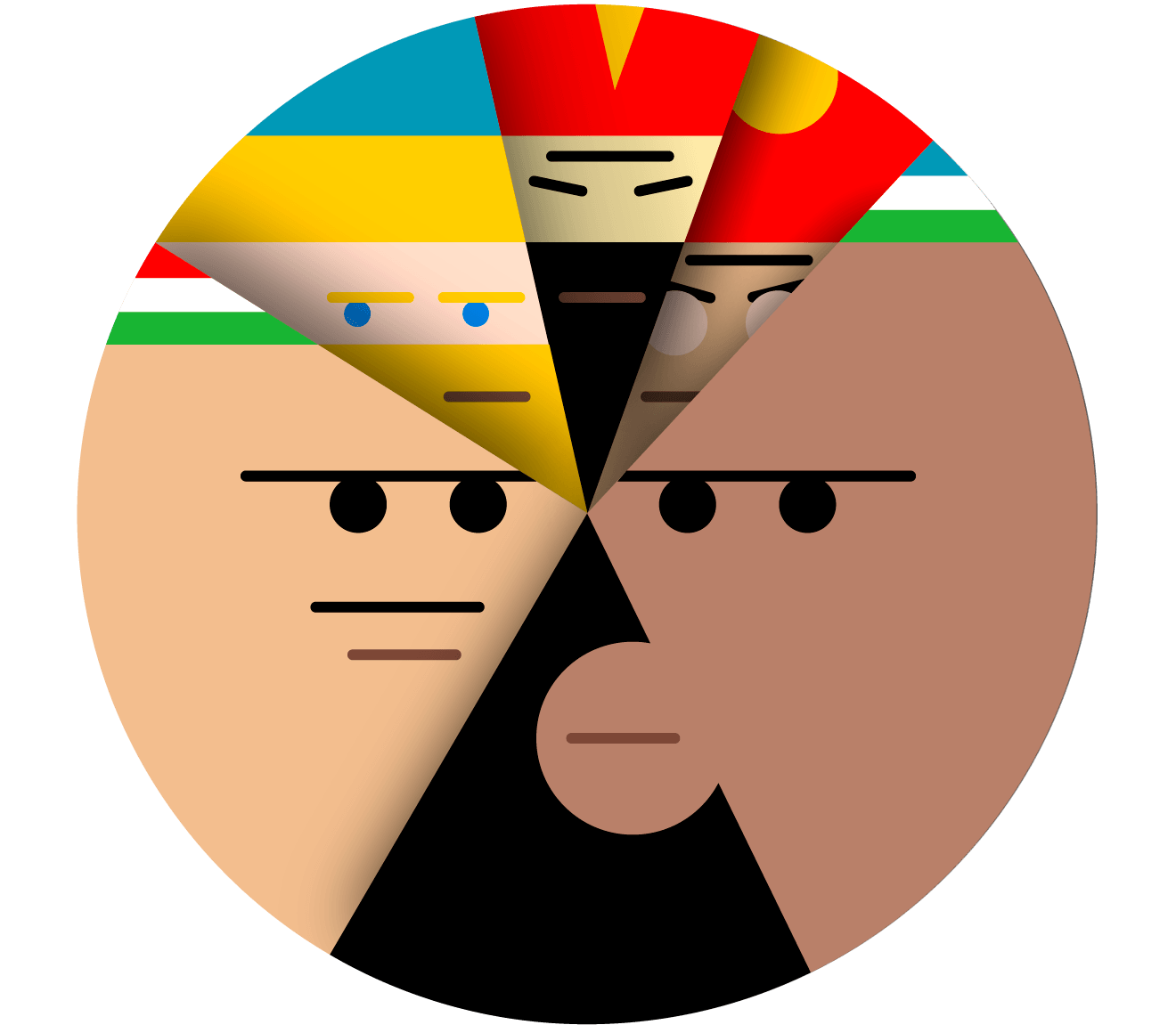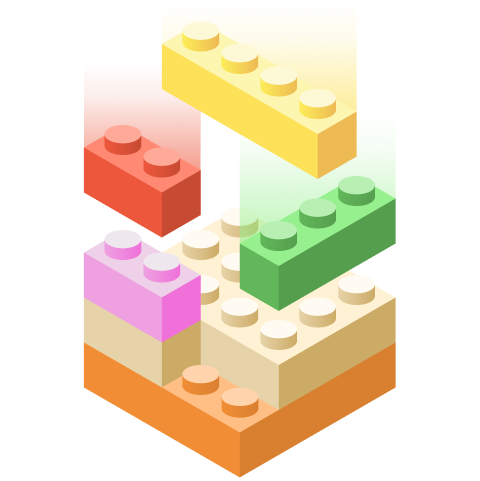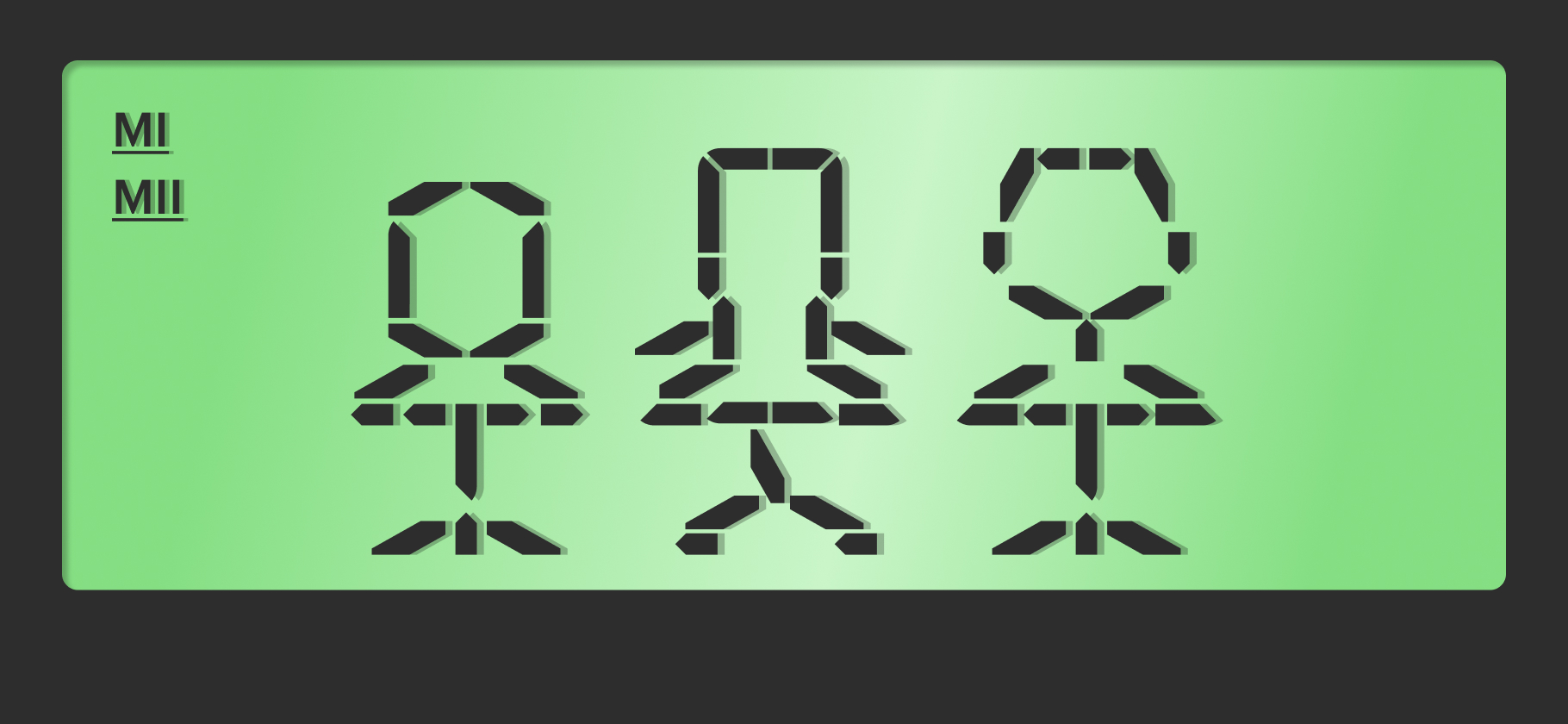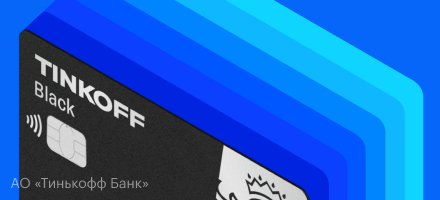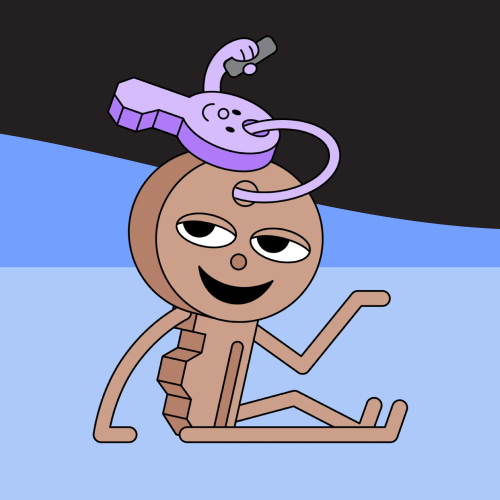«Выпускники технических специальностей переезжают чаще гуманитариев»: как устроена внутренняя миграция
Внутренняя миграция в России постепенно снижается: если шесть лет назад место жительства меняли более 4 млн человек в год, то в 2024 это сделали около 3 млн.
Почему россияне стали реже переезжать, куда мигрируют молодые специалисты и пенсионеры, какие города притягивают население, а какие рискуют превратиться в «призраков» — мы обсудили с преподавателем кафедры демографии Высшей школы экономики Михаилом Балабаном.
Что вы узнаете
- Сколько россиян сменили места жительства внутри страны за последние 15 лет?
- Почему россияне стали меньше переезжать?
- Как выглядят основные маршруты миграции внутри России?
- Какие города, кроме Москвы и Петербурга, притягивают мигрантов?
- Какие регионы и города сегодня теряют население и почему?
- Какие основные причины миграции?
- Переезжают ли люди из-за плохой экологии?
- Можно ли описать портрет внутреннего мигранта?
- Есть ли различия в миграционных процессах России и других стран?
- Как выглядела внутренняя миграция в советские времена?
- Как изменилась ситуация в девяностые?
- Какие тренды внутренней миграции можно прогнозировать на ближайшие 10—20 лет?
Сколько россиян сменили места жительства внутри страны за последние 15 лет?
Точных цифр у нас нет: масштабы внутренней миграции зависят не только от реальных перемещений людей, но и от того, как их считает статистика. Каждые 10—15 лет методика учета меняется и показатели резко скачут. Сейчас миграцию фиксируют двумя способами. Во-первых, смотрят на постоянную регистрацию — штамп в паспорте по месту жительства. Во-вторых, на временную — это отдельный документ, регистрирующий жильца по месту временного пребывания, например в общежитии или съемной квартире.
До 2011 года в статистику попадала только постоянная регистрация. После реформы добавили временную — и официальное число переездов за пару лет удвоилось: с примерно 2 млн в конце нулевых до 4 млн в десятых.
Но часть этих миграций оказалась фиктивной. Дело в том, что временная регистрация всегда ограничена по сроку: обычно на период аренды жилья или учебы. Как только она заканчивается, в базе автоматически фиксируется возврат человека к месту его постоянной прописки. В реальности человек может остаться в том же городе, но статистика покажет, что он вернулся домой.
Например, абитуриент из Иркутска поступает в московский вуз и получает временную регистрацию в общежитии. Через несколько лет он оканчивает университет, снимает квартиру и решает остаться в столице. Но его временная регистрация истекла, а новую он не оформил. В статистике это выглядит так, будто он вернулся в Иркутск, хотя фактически остался в Москве. Такие случаи исследователи называют автовозвратами. На пике в конце 2010-х их насчитывалось до миллиона в год.
Есть и другая проблема: статистика не фиксирует всех, кто переезжает без оформления документов. Например, когда человек переезжает из региона в Москву и не оформляет даже временную прописку. Масштабы таких перемещений неизвестны. В теории уточнить их должна была перепись 2020—2021 годов, где у людей спрашивали, как давно они живут по текущему адресу. Но эта перепись была сопряжена с проблемами, и ее результаты выглядят неправдоподобно: выходит, что за десять лет поменяли место жительства лишь 13 млн человек, то есть около 1,3 млн в год — это слишком мало.
Поэтому исследователи предпочитают говорить не о точных цифрах мигрирующих, а о вилке: примерно от трех до четырех миллионов человек в год. В 2010-е годы было около четырех миллионов мигрантов ежегодно, на пике 2018 года — 4,3 млн. Но затем активность резко пошла вниз: к 2024 число переездов сократилось до 3,1 млн. Минус четверть за шесть лет — колоссальное падение, которое в мировой практике почти не встречается.

Почему россияне стали меньше переезжать?
Есть несколько факторов. Во-первых, демография. Наиболее активно мигрирует молодежь — от 16 до 30—35 лет. Из-за снижения рождаемости в девяностых и начале нулевых численность этой группы за последние шесть лет сократилась на 15% — это объясняет существенное снижение количества переезжающих.
Второй фактор — изменение так называемого календаря жизненных событий. Люди стали позже вступать в брак, заводить детей, искать постоянную работу. Эти этапы жизни обычно сопряжены с переездами. Но если такие события откладываются, миграционная активность в конкретный год становится ниже.
Еще один фактор — жилье. Переезд невозможен без решения жилищного вопроса. Но недвижимость дорожает, стоимость аренды растет, ключевая ставка высокая. К этому добавляется падение реальных доходов в конце 2010-х: у людей просто стало меньше ресурсов для переезда.
С 2020 года заметную роль играет и переход на удаленку. Когда появилась возможность работать дистанционно, у части людей отпала необходимость менять место жительства ради работы.
Наконец, у исследователей есть предположение, что на миграцию повлияла пенсионная реформа. Многие переезжают именно при выходе на пенсию. Но так как пенсионный возраст повысился, эти миграции отложились — до 2028 года миграционная активность в старших возрастах может быть ниже обычной.
Не исключено, что есть и статистические искажения: Росстат не всегда прозрачен в своих решениях и методиках и не всегда вовремя сообщает об изменениях в учете.
Как выглядят основные маршруты миграции внутри России?
Внутренняя миграция в России определяется наложением друг на друга двух больших процессов.
Первый — макрорегиональные потоки. Это так называемые западный и южный дрейфы. Западный дрейф — население азиатской части России стремится переехать в европейскую. Причем внутри самой азиатской части действует та же логика, люди уезжают западнее текущего места проживания: жители Дальнего Востока чаще уезжают в Сибирь, чем наоборот; жители Сибири — на Урал.
Южный дрейф — отток населения с Крайнего Севера. Тут сказываются и климатические, и экономические факторы. Жить в Норильске или Воркуте тяжело из-за климата, особенно с возрастом. Кроме того, на Крайнем Севере много моногородов , которые сталкиваются с экономическими проблемами, и люди уезжают.
Исключение — нефтегазовые округа Тюменской области: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий. Там высокие доходы, и они удерживают население. Но это скорее временная история: туда едут молодыми за заработками, а на пенсии все равно возвращаются на юг.
Есть другое исключение — Северный Кавказ. Там много молодежи и мало рабочих мест, поэтому регион скорее донор — оттуда едут как в нефтегазовые округа Севера, так и в крупные города европейской России.
Второй большой процесс — миграция из периферии в центры. Жители сел уезжают в малые города, из малых городов — в крупные, из крупных — в миллионники, а из миллионников — в Москву и Петербург. Дальше отправляются уже за границу, но это небольшой поток.
Я бы сравнил этот процесс с пирамидой Маслоу. Сначала человек решает базовые потребности, уезжая из деревни в малый город. Потом понимает, что нужны новые возможности — едет в региональный центр, а после этого — в город-миллионник. А на верхнем уровне остаются Москва и Петербург.
Этот процесс характерен для России и других стран бывшего СССР. Здесь почти все ресурсы концентрируются в крупных центрах: образование, рынок труда, медицина, культурная жизнь. Поэтому миграция всегда направлена вверх по иерархии. В Западной Европе и США картина иная: там и небольшие города могут быть университетскими или деловыми центрами, поэтому обратные потоки в провинцию — более заметное явление, чем в России. В Европе, например, многие уезжают на пенсию в небольшие городки, а у нас это сравнительная редкость.
Дрейфы на запад и юг играют важную роль, но ключевой процесс — это именно отток с периферии в центры. Сельская местность и малые города теряют население, а крупные города, особенно Москва и Петербург, его концентрируют. По оценке экспертов, именно эта иерархическая миграция остается главной движущей силой внутренних перемещений.
Какие города, кроме Москвы и Петербурга, притягивают мигрантов?
Так как в России преобладает именно центро-периферийная логика миграции, люди едут не столько из региона в регион, сколько в конкретные крупные города. Москва и Петербург тут вне конкуренции: поток туда несопоставим с любым другим направлением. Но есть и города второго уровня, которые тянут межрегиональные потоки: Воронеж, Краснодар с пригородами, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Тюмень. Чуть слабее, но все же заметно работают Ростов-на-Дону, Самара и Красноярск. Они важны прежде всего для своей периферии и соседних регионов.
Казань, например, притягивает жителей не только Татарстана, но и Башкортостана, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии и Кировской области. Екатеринбург принимает людей из Пермского края и частично из Челябинской области.
Не всякий миллионник автоматически становится привлекательным: Омск и Волгоград, например, хоть и тянут свои регионы, для соседей интереса почти не представляют и в целом испытывают миграционную убыль.
На уровне регионов главным направлением остается движение с севера на юг — необязательно далеко. Для жителя Норильска почти вся Россия — юг, поэтому переезд в Красноярск тоже считается южной миграцией. Из северных районов Тюменской области люди часто едут в саму Тюмень, которая тоже находится южнее.
В масштабах страны одни из главных регионов притяжения после Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей — Краснодарский край, часть Адыгеи, Ставрополье, Крым и Калининградская область. До 2022 года к ним относилась и Белгородская область.
Есть и особые случаи, которые не объясняются общероссийскими тенденциями. Например, в нефтегазовых городах Тюменской области — Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и даже в небольшом Салехарде с населением всего 50 тысяч — наблюдается приток, хотя по иерархической логике они должны были бы терять людей. Сюда едут в молодом возрасте за заработками, но позже, уже в зрелости или на пенсии, возвращаются на юг.
Томск работает как университетский центр: сюда едет молодежь со всей Сибири, часть студентов после учебы остается. Сочи выступает климатическим магнитом: туда едут ради мягкого климата, хотя высокая стоимость жилья ограничивает возможности переезда. Иногда миграционные всплески возникают из-за крупных строек: например, сейчас в Амурской области строится газохимический комплекс, в город Свободный поехало много людей. Но это временный эффект — стройка завершится, поток развернется обратно.
Таким образом, россияне едут прежде всего не в регион, а в конкретные города-центры. Кроме Москвы и Петербурга это несколько миллионников и субмиллионников, которые обслуживают не только свои, но и соседние регионы. Но даже среди них есть исключения: одни притягивают мигрантов межрегионально, другие — только локально, а третьи теряют население.
Какие регионы и города сегодня теряют население и почему?
Миграция из регионов сама по себе редко бывает первопричиной проблем — скорее она их индикатор. Если люди десятилетиями уезжают, значит, в городе или регионе накопились социально-экономические трудности. Долгосрочно теряет население сельская местность, малые и средние города. Опыт показывает: порог проходит примерно на отметке 250 тысяч жителей. Города с меньшей численностью населения чаще всего уходят в минус или балансируют на нуле, тогда как более крупные центры прирастают.
Особенно сильный отток виден на Северном Кавказе — правда, там он компенсируется естественным приростом населения. Активно уезжают из районов Крайнего Севера и Дальнего Востока. В последних двух регионах сразу несколько факторов: тяжелый климат, слабая экономика, закрытие градообразующих предприятий.
В таких условиях запускается порочный круг. Уезжает молодежь и трудоспособные жители — и сразу сокращается предложение рабочей силы. Одновременно падает спрос на товары и услуги: рынок сжимается, бизнес закрывается, становится меньше рабочих мест. За бизнесом уходят школы и больницы — им просто некого обслуживать. В городе становится еще менее комфортно жить, люди снова уезжают.
Воркута — классический пример. С 1989 года в этом моногороде население сократилось вдвое, с 110 до 55 тысяч, и продолжает падать. Закрылось большинство шахт, климат суровый. Другой наглядный пример — Островной в Мурманской области: город строился вокруг базы атомных подлодок, где жило 14 тысяч человек. После закрытия базы их осталось лишь 1 200 — падение почти в десять раз. Здесь нет даже окрестной сельской местности, которая могла бы подпитывать город населением, поэтому Островной фактически прекратил существование.
Иногда отток из небольших населенных пунктов стабилизируется на низком уровне, если у города есть ценность для туристов. Тогда он превращается в место с минимальным населением, обслуживающим приезжих. Так, например, живет город Тотьма в Вологодской области — летом он переполнен туристами, его население удваивается за счет приезжих.
А есть города, у которых нет такой опоры. Северные поселки с закрытыми предприятиями, лесные города без туризма или инфраструктуры теряют 80—90% населения. Люди уезжают массово, остаются только те, кто не смог уехать. По сути, такие места просто доживают и постепенно превращаются в города-призраки.

Какие основные причины миграции?
Росстат фиксирует несколько официальных причин: работа, образование, семейные обстоятельства, возвращение к месту постоянной регистрации. Но эта статистика не очень подробная и далеко не всегда достоверная. Например, как мы уже говорили, возвращение к месту постоянной регистрации часто означает не реальный переезд, а окончание временной. Семейные причины тоже сгруппированы слишком широко: это может быть переезд и к супругу, и к детям, и к родителям — но в статистике они объединены.
Поэтому исследователи предлагают смотреть на причины через призму возраста: у каждой возрастной группы свои мотивы. За ребенка решение принимают родители, и его переезды зависят от семьи. Первая развилка наступает примерно в 16 лет: после девятого класса подросток решает, оставаться в школе или идти в колледж. В малых населенных пунктах колледжей может не быть, и тогда он уезжает в ближайший город — чаще туда, где есть родственники, чтобы родители могли контролировать и помогать. Это такая осторожная миграция, обычно в пределах одного региона.
Дальше наступает возраст максимальной миграционной активности — 17—18 лет, время поступления в университет. Вузы есть далеко не везде, поэтому переезд почти всегда связан с крупным городом, а для многих — сразу с Москвой или Петербургом. В 18 лет главная причина миграции — образование.
После окончания университета на первый план выходит работа. Человек ищет место с подходящей зарплатой, и если в городе, где учился, работы нет, может вернуться домой или уехать еще куда-то. Такая миграция направлена в первую очередь в крупные города.
Потом на первый план выходит семья. Женщины часто переезжают к супругам. Когда рождаются дети, появляется потребность в более просторном жилье, и это приводит к пригородной миграции. Семьи уезжают из мегаполисов в пригороды, чтобы совместить плюсы загородной жизни — дом, участок, более спокойная среда — с возможностью пользоваться рынком труда и инфраструктурой большого города.
После 25—30 лет миграционная активность постепенно снижается, а к 35 выходит на фоновый уровень. Но позже снова возникает локальный пик — при выходе на пенсию. Люди задумываются, где им жить дальше. Кто-то едет к детям, кто-то — на юг.
Если суммировать: в молодости главные причины миграции — образование и работа, в зрелом возрасте — семья и жилье, а в старости — климат, здоровье и поддержка близких.
Переезжают ли люди из-за плохой экологии?
Если обратиться к официальной статистике Росстата, экологические условия в месте убытия как причину переезда указывают лишь 0,7% мигрантов. Именно из-за экологии люди редко решаются на переезд, чаще они руководствуются еще и другими причинами — климатом, работой.
Пример Красноярска это хорошо показывает. Там тяжелая экологическая ситуация: режим черного неба, алюминиевое производство, высокий уровень загрязнения. Но при этом у города миграционный прирост. Люди все равно едут туда из северных районов края и даже из других регионов, потому что экономические преимущества миллионника перевешивают минусы.
При этом бывают случаи, когда экология становится основной причиной переезда. Особенно это касается семей с маленькими детьми. Многие опрошенные мигранты, которые прибыли в Краснодарский край, объясняют переезд тем, что у ребенка были аллергия, насморк и другие проблемы со здоровьем. Но это данные отдельных качественных исследований, статистики такой нет.
Есть и скрытая экологическая миграция, которая статистикой не фиксируется. В крупных городах семьи часто меняют район: например, в Саратове южная часть города рядом с нефтеперерабатывающим заводом считается менее благополучной, и люди переезжают в другие районы, где воздух чище. Формально это не миграция, а жилищная мобильность.
Можно ли описать портрет внутреннего мигранта?
Универсального портрета нет, но несколько закономерностей все же прослеживаются.
Возраст. Самая высокая миграционная активность — у людей от 17 до 35 лет. Сначала это образовательная миграция, затем — трудовая.
Образование. Чем выше уровень образования, тем человек, как правило, более мобильный. Это связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, у него шире карьерные возможности, ради работы он чаще готов менять место жительства. Во-вторых, сам процесс получения высшего образования часто требует переезда: абитуриент едет в крупный город или столицу, получает первый миграционный опыт, который потом облегчает последующие перемещения. В-третьих, наличие высшего образования формирует определенные жизненные ориентиры, которые делают человека более легким на подъем.
Есть и различия по специальностям. Например, исследования в Томске показывают, что выпускники технических специальностей переезжают чаще, чем гуманитарии. Это связано с рынком труда: гуманитарий — журналист, дизайнер или учитель — может найти работу почти в любом городе, и необходимость в переезде у него ниже. А вот специалист в естественных или точных науках востребован только в ограниченных точках — наукоградах, ЗАТО , крупных промышленных центрах. Поэтому технарям приходится быть более мобильными, а работодатели чаще борются за них, предлагая бонусы и переманивая специалистов.
Пол. Переезжают и мужчины, и женщины, но женщины заметно более подвижны до 40 лет. По статистике их миграционная активность в некоторых возрастных группах выше на 20—30%. После 40 лет ситуация выравнивается, мужчины меняются местами с женщинами. Есть несколько объяснений, почему женщины чаще мигрируют в молодом и зрелом возрасте.
Во-первых, они чаще получают высшее образование. Во-вторых, особенности статистики: прописку для ребенка в детский сад или школу обычно оформляет мать, поэтому ее перемещение виднее для системы.
В-третьих, часть мужских перемещений просто не учитывается. Например, во время срочной службы в армии перемещения не фиксируются, они выпадают из миграционной статистики. Профессиональные военные и другой спецконтингент у нас в основном представлен мужчинами — хотя фактически они перемещаются по стране, статистика не всегда это видит.
Интересный факт: мигранты чаще занимают руководящие должности и получают более высокую зарплату. По количеству браков они не отличаются от тех, кто не переезжал, но семью создают чуть позже. А вот детей у них меньше, особенно в возрасте 25—34 лет. Вероятно, поскольку часть молодости они посвящают образованию и карьере.
Есть ли различия в миграционных процессах России и других стран?
В ряде стран мобильность населения гораздо выше, чем в России. Например, в США средний американец за жизнь менял место жительства десять раз — для нас это кажется невероятной цифрой. В целом в богатых западноевропейских странах люди охотнее переезжают, для них смена места жительства проще. Дело не только в больших финансовых ресурсах. С одной стороны, там ниже доля собственников жилья, а арендаторам переезжать гораздо легче. С другой — практически нет «ловушек бедности» , когда дохода семьи не хватает даже на аренду жилья в новом месте.
Если же сравнивать Россию со странами Восточной и Южной Европы, окажется, что мы мобильнее. Это связано и с уровнем доходов, и с особенностями расселения: например, у нас есть северяне, которые постоянно перемещаются — кто-то ездит на север за заработками, потом возвращается.
В итоге Россия — средняя страна по уровню внутренней миграции: мы не так подвижны, как американцы или британцы, но и не так оседлы, как южноевропейцы.
Уникальной российскую миграцию назвать нельзя, но есть черты, которые у нас выражены гораздо ярче. Первая — центро-периферийная направленность. У нас людей из большого населенного пункта сложно заставить переехать в более мелкий. Все потоки идут в противоположном направлении: из сел и малых городов — в средние, из средних — в миллионники, а из миллионников — в Москву и Петербург.
В этом плане мы похожи на другие страны бывшего СССР, где социально-экономическая структура пространства устроена так же: услуги, университеты, рабочие места и медицина сконцентрированы в крупных центрах.
А вот на Западе картина иная. В США, например, пространство заселено более равномерно. Вы можете жить в небольшом городе — и при этом у вас будут университет, больница, работа и инфраструктура. Поэтому, окончив вуз, человек спокойно возвращается в родной небольшой город: он понимает, что сможет там комфортно жить.
В России же 90% школьников в опросах говорят о намерении уехать. Реально уезжают чуть меньше, но все равно очень много. А вернувшихся после получения высшего образования так мало, что оценить сложно: вероятно, лишь 10—15%.
Вторая особенность — масштабы временной трудовой миграции. Россия — страна вахты. Миллионы людей живут в одном регионе, а работают в другом, чаще всего — на Севере. Там можно заработать, но жить постоянно некомфортно: взять ту же Сабетту на Ямале — это производственная площадка, где нет жилья. Люди приезжают вахтой, а потом возвращаются домой.
Из-за контрастов доходов между регионами житель Мордовии, например, может работать в Москве, зарабатывать столичные деньги и тратить их дома, где все дешевле. Эта разница делает временную миграцию особенно выгодной и массовой.
В Европе и большинстве стран мира ничего подобного нет: там просто не существует мест, где можно работать, но нельзя жить. Вахтовая логика работает только в немногих больших странах, где есть климатически неблагоприятные районы с большим уровнем доходов в ресурсном секторе. Например, Канада, Австралия, Чили.

Как выглядела внутренняя миграция в советские времена?
История советской миграции длинная и неоднородная, в разные периоды действовали разные факторы.
1920-е годы: бегство из городов. После Гражданской войны и периода военного коммунизма люди массово покидали города: коммунальная инфраструктура, созданная еще при царе, рухнула. Население Петрограда , кажется, сократилось почти втрое. К середине 1920-х ситуация стабилизировалась, но это было последнее десятилетие свободных крестьянских переселений: с началом коллективизации в 1929 году сельские жители оказались привязаны к колхозам и совхозам, утратили свободу перемещения.
1930—1950-е: индустриализация, лагеря, депортации, эвакуация. В эти десятилетия ключевую роль играли принудительные перемещения. Они были связаны с политическими репрессиями и развитием промышленности в труднодоступных регионах. Заключенные ГУЛАГа строили города и промышленные комплексы — например, Норильск вырос из Норильлага. В конце 1940-х до 40—45% всех перемещений приходилось именно на принудительные миграции. Кроме того, в разные годы происходили массовые депортации: например, в 1937 году переселяли корейцев, а в начале 1940-х — немцев.
На фоне этого усиливалась урбанизация: с начала 1930-х сельская местность массово отдавала людей в города. Между переписями 1926 и 1939 годов из села ушло около 18 миллионов человек — почти столько, сколько тогда вообще жило в городах. Урбанизация продолжалась всю советскую эпоху, хотя власть понимала: село теряет нужных работников.
В годы войны происходила эвакуация предприятий и населения из западных регионов в Поволжье, на Урал, в азиатскую часть страны. Там появлялись новые рабочие места, и многие города выросли в несколько раз.
В 1950—1960-е годы прошел последний крупный эпизод сельской миграции — освоение целины в Казахстане и Южной Сибири.
1960—1980-е: всесоюзные стройки и переезд на Север и Дальний Восток. Позднее миграция концентрировалась вокруг крупных промышленных проектов. Когда строился КамАЗ в Набережных Челнах или Волжский автозавод в Тольятти, население городов выросло в разы: Тольятти, например, увеличился с 50 до 500 тысяч.
Отдельная история — Север и Дальний Восток. Здесь действовали северные льготы и надбавки, которые стимулировали переезд. Население этих регионов за советский период выросло в десятки раз: в Ханты-Мансийском округе до открытия нефти жило несколько десятков тысяч человек, сейчас — около двух миллионов.
Но в последние годы существования СССР многие исследователи считали, что Север и Дальний Восток были перенаселены: там жило больше людей, чем экономически оправдано. Это объяснялось и стратегическими соображениями. Во-первых, часть промышленности, особенно военной, сознательно развивали в глубине страны, подальше от границ стран НАТО. Во-вторых, в условиях напряженных отношений с Китаем на восточных рубежах держали крупную группировку войск, которую нужно было обеспечивать продовольствием, стройматериалами, товарами и инфраструктурой.
Важную роль в миграции периода СССР играло и распределение выпускников вузов. Оно препятствовало массовому переселению молодых специалистов из малых населенных пунктов в большие. Человек мог окончить университет в Москве, но его направляли работать в сельскую местность. В этом смысле сегодняшние программы вроде «Земского доктора» — лишь бледная тень советской системы.
Советский человек имел гораздо меньше свободы миграции, чем современный россиянин. Институт прописки и отсутствие массовой паспортизации привязывали людей к месту жительства, а доступ к социальным услугам зависел от того, где ты зарегистрирован. Поэтому миграция часто шла окольными путями: через распределение после вуза, командировки предприятий или даже фиктивные браки, когда женщины выходили замуж за горожан, чтобы получить прописку.

Как изменилась ситуация в девяностые?
В 1990-е внутренняя миграция заметно сократилась. В конце советского периода, в 1980-е, переселялись примерно пять-шесть миллионов человек в год. Это меньше, чем в пиковые годы советской урбанизации — в 1960—1970-е ежегодно переезжали семь-восемь миллионов. Но к концу периода существования СССР миграционный потенциал села стал иссякать: массово уезжать постепенно становилось некому. Этот процесс продолжился в 1990-е. В начале десятилетия ежегодный объем миграций составлял около 4,5—5 млн человек, к концу 1990-х он снизился до трех миллионов. А по текущему способу учета — вовсе около двух. Это серьезное падение.
Причины снижения уровня миграции в конце 1990-х понятны. Во-первых, переезд — процесс затратный: на это нужны деньги. В условиях падения реальных доходов и общего экономического кризиса у людей просто не было ресурсов для переезда. Во-вторых, снизился спрос на труд в крупных городах. Заводы закрывались или находились в подвешенном состоянии, перспектива трудоустройства там становилась туманной. При этом стоимость жизни в городах росла, особенно обострились проблемы на жилищном рынке. В итоге у многих отпадал сам смысл переезда: зачем ехать в большой город, если неизвестно, что там делать и как выживать.
В сельской местности и малых городах сохранялись хотя бы минимальные возможности для выживания за счет подсобного хозяйства — выращивания картошки и другой сельхозпродукции. Для малоимущих слоев населения это было важным аргументом остаться.
При этом в 1990-е активизировалась временная трудовая миграция. Появилась возможность не переезжать насовсем, работать вахтовым методом: жить, например, в Мордовии, но ездить на заработки в Москву.
На Дальнем Востоке и Севере в 1990-е произошел миграционный коллапс — население там падало обвальными темпами. В Магаданской области и на Чукотке за период между переписями 1989 и 2002 годов численность жителей сократилась втрое. Чукотский автономный округ уменьшился с примерно 150 тысяч человек до 50 тысяч. Многие населенные пункты прекратили существование, другие сжались в несколько раз. Этот отток продолжается и сейчас.
В более благополучных регионах, напротив, люди скорее замерли. Урбанизация приостановилась: государство больше не препятствовало переездам, но рыночные механизмы стали естественным барьером. Решение об отъезде откладывалось. Впоследствии в 2000-е и 2010-е часть отложенных миграций все же состоялась и цифры снова подросли.
Какие тренды внутренней миграции можно прогнозировать на ближайшие 10—20 лет?
Прогнозировать трудно: в России каждые 10—15 лет что-то меняется в системе учета, старые тенденции обнуляются, но все-таки можно выделить несколько факторов, которые будут оказывать влияние на миграционные потоки в ближайшие годы.
Удаленка и цифровизация. Здесь все неоднозначно: дистанционная занятость в последние годы действительно повлияла на снижение миграционной активности, но пока неясно, как именно. На мой взгляд, она конкурирует не столько с постоянными переездами, сколько с вахтовым трудом: можно получать зарплату в одном месте, а жить в другом за счет разницы цен.
При этом удаленка вовсе не означает, что люди массово уезжают в глубинку. Многие айтишники и другие специалисты формально работают на дистанте, но продолжают жить в Москве или Петербурге. Здесь важен не только доход, но и среда: социальные связи, культурные возможности, досуг. Тот, кто пожил в мегаполисе, бывает не готов возвращаться в малый город.
Но для семейных людей и тех, кто подходит к предпенсионному возрасту, удаленка может действительно стать шансом уехать из столицы и улучшить жилищные условия, сохранив доход.
Инфраструктурные проекты. Большую роль будет играть развитие транспорта. Чем быстрее можно добраться, например, до столицы, тем шире зона ее пригородного влияния. Исследования уже показывают, что запуск Московских центральных диаметров повысил привлекательность ряда подмосковных городов и даже повлиял на рынок жилья. Чем больше будет таких проектов, тем активнее люди станут переселяться в пригороды, сохраняя доступ к рынку труда крупных городов.
Переселение в большие города. Этот тренд вряд ли получится сломить в ближайшие годы. Пока в малых населенных пунктах нет конкурентных преимуществ: рабочие места и качественное образование сосредоточены в крупных центрах. Да, кто-то ищет хорошую экологию и климат, но это касается узких возрастных групп. Массового разворота тренда ожидать не стоит.
Демографический фактор. Сегодня в активный миграционный возраст входят поколения, родившиеся в 1995—2005 годах. Их численность в полтора раза меньше, чем родившихся в предыдущем десятилетии — около 15 млн против 23 млн. Такая разница снижает общую мобильность. Но за ними подрастает более многочисленное поколение конца 2000-х — начала 2010-х. Когда они достигнут студенческих и карьерных лет, численность мигрантов снова может вырасти. Получится волнообразный процесс, привязанный к демографическим колебаниям.
Экономика и доходы. В целом мобильность зависит от уровня доходов: чем выше заработки, тем больше у людей ресурсов и желания уехать, если что-то не устраивает. Если разница в уровне жизни между регионами сохранится, люди будут двигаться в крупные города. Но если экономика снова войдет в стагнацию, миграция может резко снизиться — как это уже было в 1990-е годы.
Миграция — процесс сложный, зависит от многих факторов. Насколько неопределенны наши социально-экономические прогнозы в целом, настолько неопределенны и миграционные. На это накладывается проблема со статистикой — она становится все менее прозрачной. Если что-то поменяется в учете, мы можем этого не узнать — и не понять, как корректировать свою точку зрения.
Жизнь россиян в цифрах: что едят, сколько работают, куда ездят и на что тратят деньги. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое интересное: @t_stata