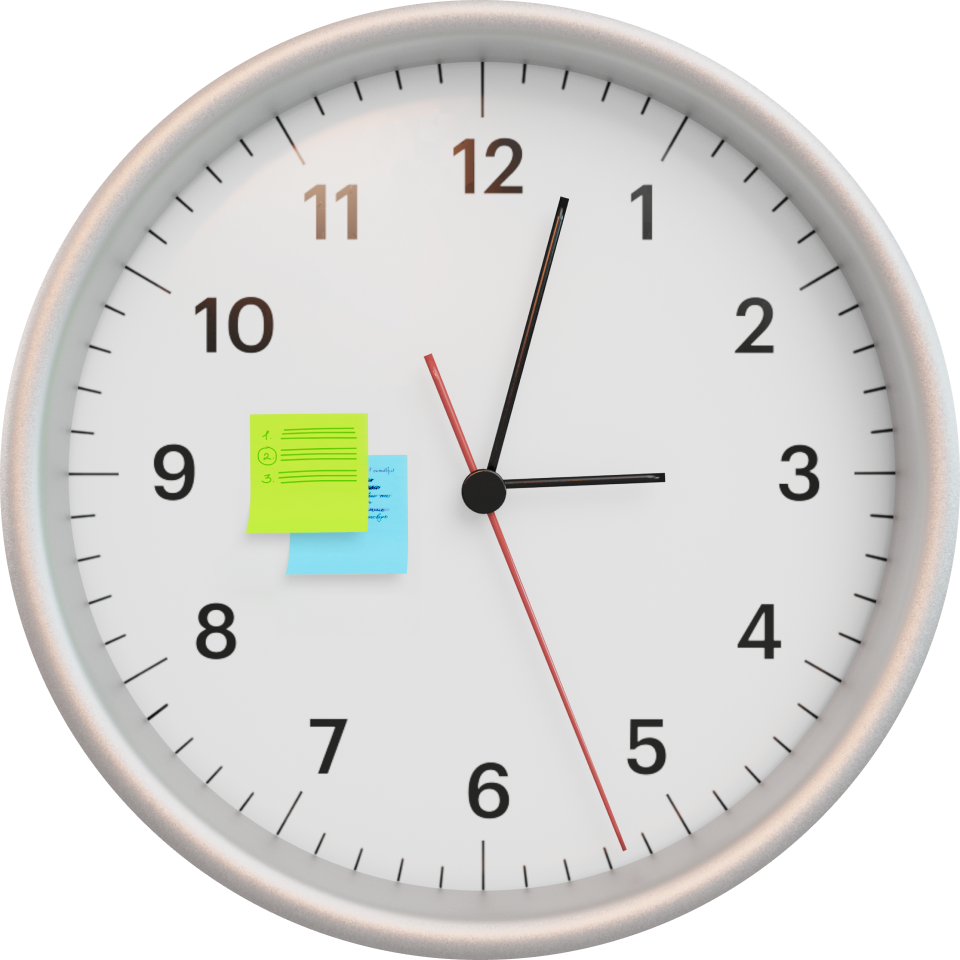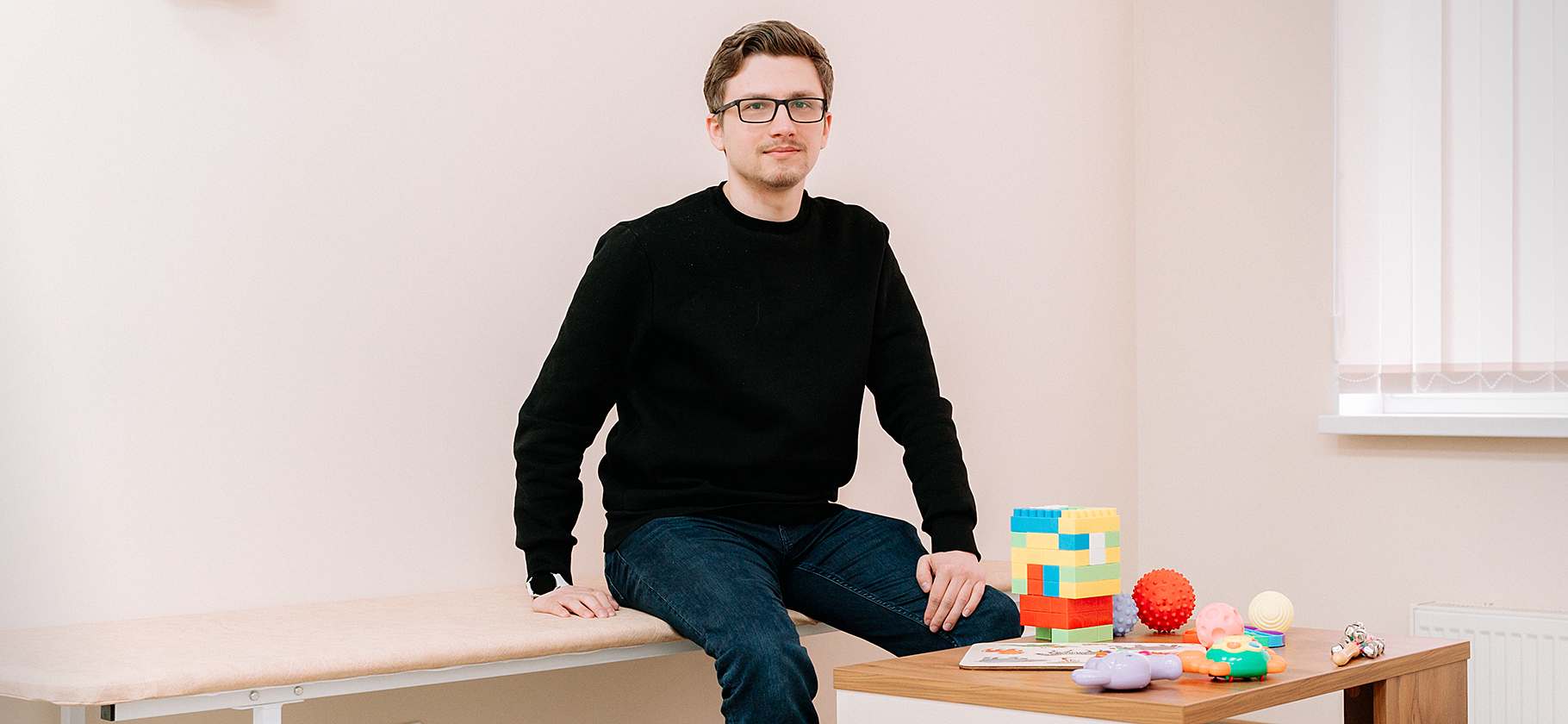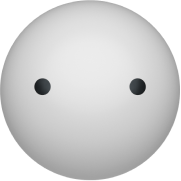«Кринж — не вполне то же самое, что стыд»: филолог — о том, как меняется русский язык
Изменения в русском языке многих раздражают.
Одним не нравится засилье иностранных слов, другим — неправильные ударения, а третьи высмеивают феминитивы. Обычно это делают не профессиональные филологи и лингвисты, а те носители языка, которым сложно принять новые тенденции. У специалистов к новшествам отношение спокойнее: они наблюдают за языковым явлением и, когда оно становится массовым, фиксируют в словарях.
Мы поговорили о том, что сейчас происходит с русским языком, с филологом, преподавателем и автором книги «В начале было кофе» и телеграм-канала «Восстание редуцированных» Светланой Гурьяновой.
- Почему в русском языке появляются новые слова
- Как соцсети влияют на этот процесс
- Как возникли скуф, тарелочница и тюбик
- Откуда берутся неологизмы
- Нормально ли злоупотреблять заимствованиями
- Как заимствования приживаются в языке
- Когда стоит говорить по-русски, а не по-английски
- Почему неологизмы многими воспринимаются болезненно
- Почему все ненавидят феминитивы
- Почему одни феминитивы ненавидят больше других
- Какие локальные тенденции появляются в русском языке
- Как появляется языковая норма
- Какие глобальные тенденции появляются в русском языке
- Какие книги и ресурсы о русском языке читать
— Почему в русском языке появляются новые слова?
— Новые слова — неологизмы, если говорить профессиональным языком, — могут возникать по разным причинам. В основном они заполняют какую-то лакуну, когда есть новое явление или предмет, который нужно назвать. Например, если для технического изобретения нет названия, оно должно появиться. Такие привычные сегодня слова, как интернет и смартфон, когда-то тоже были неологизмами.
Иногда неологизмы возникают под влиянием моды. Если люди хотят самовыразиться, обозначить позицию с помощью языковых средств, они могут придумывать новые слова, чтобы сделать свои высказывания более яркими и эмоциональными. Например, можно сказать «атмосфера» или «настроение», а можно использовать модное словечко «вайб»: оно и короче и для многих драйвовее.
Часто неологизмы появляются в молодежной среде, потому что действительно важная функция языка — это самовыражение и стремление отделиться своей группой от всех остальных. Для молодежи это особенно актуально. Поэтому зумеры вряд ли скажут «испанский стыд» или уж тем более «конфуз», они скорее будут использовать слово «кринж». Впрочем, и оно уже начинает устаревать: все чаще говорят «кринге» или употребляют ироничный русский аналог «кукож», ведь английское to cringe переводится как «скукожиться».
— Как соцсети влияют на процесс образования и распространения новых слов?
— Не думаю, что ситуация с неологизмами радикально отличается от того, что было раньше. Они, может быть, распространяются быстрее за счет соцсетей, но нельзя сказать, что сейчас засилье неологизмов и сленга по сравнению с другими эпохами.
Каждое новое поколение разговаривает немного иначе, чем предыдущее. Это было всегда. Можно встретить и в литературе 18—19 веков брюзжание старичков, что молодежь совсем русский язык испортила. Но ничего, сленг, хоть и достаточно распространен, быстро улетучивается. Остаются лишь крупицы.
Есть, например, словарь школьного жаргона 19 века, составленный Ольгой Анищенко на основе дневников, писем, мемуаров и художественной литературы. Там столько забавных и странных словечек.
Отличников называли бонсюжешками — от французского bon sujet, «хороший пример», или сцитами — от латинского sciens, «знающий». Отстающих учеников — мовешками, от французского mauvas sujet, «плохой пример», бородачами, проскрипторами: по-латыни proscriptio — «список осужденных на казнь или ссылку».
Прогуливать на сленге 19 века — казенничать, лытать, огуряться, проказачивать. Директор — локомотив, учитель — тараканиус, амфибия, зверь. Шпаргалка — антидраль, антиплешь и почему-то разведение клопов. Зато почти без изменений до наших дней дошли камчатка — задние парты — и классуха (раньше — классная дама, теперь — классный руководитель).
Еще совсем недавно новым молодежным словечком было прощание «пока». Оно поначалу возмущало, например, Корнея Чуковского, он писал об этом в книге «Живой как жизнь» всего 60 лет назад. Для него слово «пока» звучало, наверное, примерно так же, как для нас звучало бы произнесенное при прощании «еще» или «теперь». Слово «пока», скорее всего, выделилось в послереволюционное время из этикетных формул «пока прощай» и «пока до свидания» и поначалу многим казалось непривычным, зато теперь его используют почти все. Но это нетипичная судьба сленгового слова.
Некоторые слова вообще живут несколько лет. Например, моя книга «В начале было кофе» вышла в 2023 году, а писалась еще раньше. Там есть раздел про сленг, и сейчас я понимаю, что он уже не особенно актуален. Многие слова уже редко используются: например, «ванильно» — «слишком романтично», «кун» и «тян» — «юноша и девушка» (слова, образованные от японских именных суффиксов). На смену им пришли другие. В языке остаются более яркие и эмоциональные слова, а также те, что используются для названия какого-то нового явления.
— Наверное, самый известный сейчас сленг — это скуф, тарелочница, тюбик. Как они возникли?
— История скуфа хорошо известна: слово образовано от фамилии одного из пользователей анонимного форума «Двач» — Скуфьин. Оно рисует определенный образ мужчины: средних лет, пассивный, махнувший рукой на свою внешность, увлекающийся больше видеоиграми и телевизором, чем карьерными достижениями и интересными хобби.
Это частая история — фамилия стала описанием явления или предмета. Слово «папарацци», например, произошло от фамилии героя фильма «Сладкая жизнь» Феллини. «Ловелас» — фамилия персонажа одного из романов Сэмюэла Ричардсона, написанного еще в 18 веке.
Вот мы с вами и поставили в один ряд скуфа, ловеласа и папарацци.
Тюбик же — это обычная языковая метафора. Мы часто используем их в речи, даже не замечая этого. Например, ножка стола — у мебели ведь не может быть ноги, как у человека, но мы наделяем предметы своими чертами.
По похожему принципу создано слово «тюбик». Это на первый взгляд привлекательный и интересный парень, но манипулятор, создающий бесконечные эмоциональные качели. Его некрасивое поведение с девушками может объясняться неуверенностью в себе. А раз так, значит, на него можно надавить, как на тюбик с зубной пастой (это одна из возможных трактовок метафоры). И само слово «тюбик» звучит забавно за счет уменьшительно-ласкательного суффикса «-ик», поэтому оно такое яркое и эмоциональное.
Тарелочница образована похожим образом и происходит от слова «тарелка». Тарелочницами называют женщин, которые, с точки зрения мужчин, приходят на свидание, только чтобы поесть.
— Все эти слова из интернета. Это основной источник неологизмов сегодня?
— Скуф и тюбик действительно зародились в интернете — на форуме и в соцсетях. Но часто бывает так, что в интернет слова приходят извне, когда люди в каком-то своем сообществе их начинают активно употреблять. Так что источником иногда оказываются, например, кино, сериалы, компьютерные игры, форумы программистов.
С ростом популярности сериала «Слово пацана» завирусилось слово «чушпан» — насколько я знаю, оно уже существовало в сленге 90-х, но сериал дал ему вторую жизнь. Слова «баг» и «фича» появились исходно в сленге айтишников, а интернет дал хорошую площадку для их распространения.
— Новые слова также активно заимствуются из английского и адаптируются под русский язык: «апрувить», «окать» и так далее. Уместно ли использовать такие слова, с точки зрения филолога?
— Все зависит от контекста и от ситуации. Главная функция языка — это обеспечение коммуникации. Если получилось донести мысль точно и ясно, если собеседник вас понял, значит, все хорошо, коммуникация состоялась и выбор языковых средств был оправдан. Если в коммуникации с геймером нужно употребить много заимствованных слов, чтобы он вас понял, почему бы этого не сделать. А в разговоре с деревенской бабушкой так обычно делать не стоит.
В заимствованиях нет ничего ужасного: это здорово, что один язык открыт для взаимодействия с другими. Значит, и общество открыто миру.
Сейчас все беспокоятся насчет английских заимствований. Но это не первая и не последняя волна заимствований из другого языка. Во времена Пушкина использовали много французских слов — и ничего, русский язык как-то выжил.
А если посмотреть в глубину истории языка, можно обнаружить много всего интересного. Сколько было заимствований еще в бесписьменную эпоху. Например, слова «хлеб» и «изба». Казалось бы, такие русские слова, а ведь они заимствованы из германских языков.
Это не значит, что у славян не было своих хлебобулочных изделий и деревянных построек. Германские слова могли прийти на смену местным аналогам. И сейчас уже никто не помнит, что хлеб и изба — это заимствования. И никого это не беспокоит.
— А как заимствования закрепляются в языке? Допустим, слово «ксерить», которое пришло к нам в 90-е годы, давно стало привычным, хотя по сути это название бренда. А слово «пикми» появилось недавно и часто требует пояснения.
— Слово «ксерокс» пришло вместе с самим предметом. Как русский язык адаптирует такие слова? Прежде всего начинает встраивать заимствования в свою грамматику. Например, у слов появляются русские окончания. Мы клоняем «ксерокс» по традиционной для слов второго склонения модели: «ксерокс, нет ксерокса, дать ксероксу, о ксероксе» и так далее, то есть окончания мы используем вполне себе русские.
Следующий этап освоения заимствования — появление производных. От него образуются другие слова с помощью суффиксов, приставок. От слова «ксерокс» произошел, к примеру, глагол «отксерить». И, кстати, его уже нельзя назвать заимствованием, потому что он образовался в русском языке.
Слово «пикми» появилось недавно, оно не склоняется. Кто знает, станет ли оно общеупотребительным? Шансов не так много, как с ксероксом. То слово было нужно, чтобы как-то обозначать устройство, которым многие пользовались. А пикми — это девушка, которая старается всем понравиться. Кажется, далеко не для всех носителей это слово может стать необходимым.
Да, его удобно произносить вместо длинной громоздкой конструкции. Называет ли оно новое явление, которого раньше не было? Так мы сказать не можем. Все-таки пока оно воспринимается как очень специфическое. Я не могу точно сказать, останется оно в языке или уйдет через год-два. Но второй вариант вероятнее.
— Часто мы заимствуем слова, аналоги которых уже есть в русском. Например, можно сказать «предприниматель» и «бизнесмен». Когда стоит переводить, а когда оставить как есть?
— Общий алгоритм вывести сложно, нужно разбирать каждый конкретный случай. Некоторые пуристы и законодатели любят говорить, что раз уж есть в русском языке какой-то аналог, заимствование употреблять категорически нельзя. Даже какие-то законы в связи с этим собираются принимать. На мой взгляд, это некорректная позиция. Мы же говорим, что русский язык великий и могучий. Разве величие и могущество может быть ограниченным и неразнообразным?
Вариативность и большое количество синонимов — это хорошо, даже если они полностью заменяют друг друга. Классно, что мы можем одну и ту же мысль выразить совершенно разными способами, разными словами в зависимости от ситуации, от собеседника, с которым мы разговариваем.
А если какое-то заимствование становится очень популярным, значит, оно привносит какой-то дополнительный оттенок смысла. То же слово «кринж» — это не вполне то же самое, что стыд. Это скорее стыд за действия других людей. Конечно, в русском есть и «испанский стыд», но это довольно длинное словосочетание. «Кринж» — короткое и емкое слово, поэтому удобно использовать его. И от него идут производные, например кринжевать и кринжово, — а это свидетельствует о том, что слово встраивается в язык достаточно прочно и пока не собирается из него уходить.
— Почему такие новые слова болезненно воспринимаются многими консервативными носителями языка?
— Не только консервативными: человек может быть вполне прогрессивным в своих взглядах, но все равно болезненно реагировать на языковые новшества.
Думаю, это вопрос скорее к психологам, чем к филологам. Но я могу предположить, что люди воспринимают язык как часть самоидентификации. Человек пытается рассказать миру, что он из себя представляет, с помощью одежды, языка и других вещей. И нам часто кажется опасным, странным и чужим тот, кто от нас отличается — выглядит, говорит, ведет себя иначе.
Корни этих чувств идут, возможно, из первобытного периода, когда человек другого племени был врагом. И если язык другого человека существенно отличается от нашего, мы автоматически можем это воспринимать как скрытую угрозу.
Но на то мы и люди, чтобы контролировать наши первобытные проявления. Ведь человек может говорить как-то иначе, потому что ему так нравится, а не потому, что он опасен для нас.
— Особенное сопротивление и яростные дискуссии в интернете вызывают феминитивы. Почему так?
— Проведу небольшой экскурс в историю феминитивов. Феминитивы вполне естественны для русского языка. Можно вспомнить княгиню или ткачиху с поварихой. Это очень старые слова. Мы часто понимаем феминитивы как обозначение профессий женщин, но на самом деле термин более широкий. Это обозначение женщины в любой сфере: слова «женщина», «мама», «бабушка», «сестра» — это тоже феминитивы. И никакого протеста они не вызывают.
Даже слово «авторка» не такое уж новое. Его можно обнаружить в словарях рубежа 19—20 веков. Правда, там не стоит ударение — мы не знаем, «Авторка» она или «автОрка». Это важно, потому что традиционно в русском языке ударения в феминитивах с суффиксом -к(а) должны стоять именно на предпоследнем слоге, как в словах «спортсменка» и «комсомолка». А в словах «авторка» или «блогерка» это языковое правило нарушается.
Возможно, поэтому люди интуитивно чувствуют отторжение к ним. Но ударение и его нормы в русском языке вполне могут меняться, и со временем, возможно, слова «авторка» и «блогерка» никого раздражать не будут.
Критики феминитивов часто говорят, что, когда речь идет о профессиональной деятельности, пол не имеет значения. Но зачем тогда нам использовать феминитив для обозначения места жительства, национальности, религии? Тем не менее это обязательно. Мы не можем сказать, что женщина москвич, француз или буддист. Мы обязательно скажем, что она москвичка, француженка, буддистка.
Может быть, когда-нибудь использование феминитивов станет обязательным и в профессиональной сфере. Но, возможно, язык пойдет по другому пути и мы станем употреблять названия профессий как слова общего рода. Уже сейчас мы можем сказать «хороший врач» и «хорошая врач» — это сильная языковая тенденция.
Но тут есть одна проблема. Обычно слова общего рода, например «сирота» и «умница», используются и в косвенных падежах без проблем. Например, мы можем сказать и «я познакомилась с интересным коллегой», и «я познакомилась с интересной коллегой». А с обозначениями профессий так не получится. «Я познакомилась с хорошей врачом» — звучит как-то не очень. Так что или язык будет нормализовывать такие конструкции, или мы все-таки начнем чаще использовать феминитивы.
Кроме того, существуют такие феминитивы в обозначении профессий, которые вообще обязательны. Например, актриса, няня, певица. Мы не можем сказать о женщине, что она певец или актер. Кейт Бланшетт настаивает на том, чтобы ее называли по-английски actor, а не actress. Но по-русски так пока не принято.
— Почему одни феминитивы, например авторка и психологиня, вызывают меньше отторжения, чем другие — допустим, врачиня?
— Тут уже дело привычки. Мы просто не привыкли к слову «врачиня». А с точки зрения морфологии, языковой структуры оно не какое-то невероятное и не нарушает принципиальных языковых законов.
Вернусь к обозначению профессии с помощью слов общего рода. В косвенных падежах они пока выглядят странно, но в разных текстах я наблюдаю появление таких форм. Я вижу, что люди пишут про мой блог: «Прочитала пост интересной филолога». Это письменное высказывание: значит, прежде чем написать, человек его как-то сформулировал, подумал над ним и употребил его осознанно.
Мы не знаем, что будет с феминитивами дальше. И четких инструкций о том, как их употреблять сейчас, я тоже дать не могу. Мне кажется, это выбор каждого человека. И язык — это очень сложная структура. Есть предпосылки для появления новых феминитивов и есть предпосылки для отказа от них — куда вырулит язык, пока не ясно.
Мне же кажется, что, если человек использует новые феминитивы и заимствования, он следит за тем, что происходит с языком, открыт всему новому, у него определенные взгляды на общество.
— Какие сейчас тенденции появляются в языке?
— Есть микроизменения, которые, возможно, не все заметили. Например, слово «альпакА» раньше было неизменяемым и употреблялось с ударением на последний слог: «Я увидела прекрасных альпакА». И в блогах, где учат грамотной речи, было много постов о том, что обязательно слово «альпака» использовать именно так. Но несколько лет назад в словарях появилась и «альпАка» — с ударением в середине слова, — и ее разрешили склонять. То есть сейчас уже вполне легитимно говорить: «Я познакомилась с прекрасными альпАками». А несклоняемое «альпакА» теперь отмечено в словарях как устаревающее.
В последние десятилетия появилось новое значение слова «амбициозный». Раньше у него был негативный оттенок: так говорили про чрезмерно напыщенного человека, наполненного самомнением. Сейчас мы можем так сказать про того, кто нацелен на достижение успеха в жизни и карьерные свершения. Для большинства людей это уже нейтральная характеристика, но она пока не закреплена в словарях.
Вообще, лингвисты не всегда успевают фиксировать изменения живой речи на бумаге. Гораздо чаще новые явления, орфографические и грамматические изменения сначала появляются в электронных словарях.
— А как появляется языковая норма?
— В представлении многих людей языковые нормы появляются, когда высокие умы пишут какое-нибудь новое правило, что все теперь должны говорить определенным образом. Но на самом деле все не так. Лингвисты не выдумывают какие-то новые нормы, они их лишь фиксируют, наблюдая за употреблениями слов.
Сейчас есть много возможностей для этого: необязательно ходить с диктофоном по улицам, можно зайти в интернет, почитать множество текстов, прослушать подкасты, посмотреть видео и проследить, как сейчас употребляются те или иные слова. После того как лингвисты понимают, что большая часть образованных — это важно — людей стала говорить немного иначе, они фиксируют языковое изменение в словарях, справочниках, грамматиках.
Изменения могут происходить и фиксироваться с разной скоростью. Например, слово «кофе» веками вызывает полемику. С другими словами, которые поменяли свой род, все произошло гораздо быстрее. Кто сейчас использует слово «метро» в мужском роде? А ведь изначально оно употреблялось именно так, в 1930-е годы выходила даже газета «Советский метро». «Метро» — сокращение от слова «метрополитен». А раз метрополитен мужского рода, значит, и сокращение от него тоже должно быть мужского. Но люди очень быстро об этом забыли.
— А какие более глобальные вещи происходят с русским языком?
— Есть глобальные тенденции, на которые интересно смотреть прямо сейчас, потому что у них есть все шансы когда-нибудь стать нормой. И эти тенденции могут прослеживаться на очень разных уровнях. У нас появляется новый союз «то что». Например, «я знаю, то что он придет». Причем изменилась даже интонация: молодые люди теперь делают паузу не между «то» и «что», а перед всем этим сочетанием «то что».
Иногда это сочетание «то что» используется даже после тех глаголов, которые в принципе не могут присоединять местоимение «то» в именительном падеже. Например, «я думаю, то что» — нормативно было бы сказать «думаю о том, что». Фактически мы имеем дело с появлением нового союза. Раньше мы использовали простое «что» — «я думаю, что он придет». А сейчас вместо него все чаще говорят «то что».
Да, многие негодуют из-за этого явления, но оно стало настолько частотным, что, скорее всего, через 200—300 лет так будут говорить все. И на самом деле этот новый союз не выбивается из структуры русского языка. Мы говорим «оттого что», «для того чтобы», «потому что», «несмотря на то что», «в связи с тем что», постоянно используя в союзах разные формы слова «то». Причем мы можем сказать и «мы созвонились, чтобы поговорить» и «мы созвонились для того, чтобы поговорить». Почему бы не появиться паре «я знаю, что он придет» и «я знаю, то что он придет»?
Бродский писал: «Я не то что схожу с ума, но устал за лето». Если вдуматься, что это за «то» в этой конструкции, зачем в ней «что»? Тем не менее она нас не раздражает. А наших потомков, думаю, перестанет раздражать новое «то что».
Есть еще одно глобальное грамматическое изменение — это расширение функций предлогов. Если посмотреть тексты столетней давности, можно увидеть там много словосочетаний без предлогов, которые сейчас кажутся немного странными. Например, «мебель красного дерева». Сейчас мы скорее скажем «мебель из красного дерева». Или «умер чахоткой» — сейчас мы скажем «умер от чахотки».
В современном языке мы гораздо чаще используем предлоги там, где раньше их не было. Они появляются во многих конструкциях. Например, кого-то раздражает «оплата по карте», якобы надо говорить только «оплата картой». Но конструкция с «по» вписывается в новую тенденцию расширения роли предлогов и мало чем отличается от «отправки по почте», «песни по радио» или «шоу по телевизору».
Кроме того, постепенно меняется произношение слов. Лингвист-диалектолог Игорь Исаев много рассказывает, что сейчас молодые люди говорят иначе, чаще сокращают гласные [о] и [а] в безударных слогах. Например, в слове «паровоз» три слога. Последний слог ударный — «паровОз» — его мы произносим четко. Слог перед ударением у старшего поколения немного короче. А первый слог совсем короткий, там появляется так называемый редуцированный гласный. Его лингвисты могут еще называть шва — он короткий, неясный и нечеткий, больше похожий на сильно сокращенный Ы. В транскрипции его могут обозначать с помощью твердого знака.
Сейчас наблюдается тенденция, что практически во всех безударных слогах вместо [о] и [а] молодые люди начинают произносить шва. Если раньше мы произносили [пъравос], то сейчас молодые люди часто говорят [пъръвос], почти [првос], сильно сокращая гласный не только в первом слоге, но и во втором.
Это часто прослеживается в песнях, где приходится протягивать даже безударные гласные: раньше могли спеть «параавоооз», а теперь — скорее «пырывоз». Была такая песня у рэпера Хаски — «Панелька». Это я говорю «панелька», а в треке можно услышать скорее «пынельк» — первый гласный больше похож на [ы], а последний почти совсем не слышен. То есть в речи молодежи меняется степень сокращения безударных слогов, и это очень заметно.
Очень интересно, как будут говорить наши потомки, разовьется ли эта тенденция.
Лучшие книги и ресурсы о русском языке
Книга Владимира Плунгяна «Почему языки такие разные» стала победителем премии «Просветитель» и рассказывает не столько про русский язык, сколько о том, как устроены языки мира, чем они различаются и чем похожи.
Книга Ирины Фуфаевой «Как называются женщины» — для тех, кого интересует тема феминитивов. Это добротное исследование лингвиста без какой-то идеологической нагрузки, без однозначных утверждений по поводу того, надо их использовать или нет.
Моя книга «В начале было кофе» — в ней я развеиваю разные стереотипы и мифы о языке, которые многие сейчас транслируют. Например, про слова «кофе», «кушать» и «извиняюсь», ударение «звОнит» и так далее. Во второй части я разбираю мифы об истории русского языка. Например, что этруски — это русские, русский язык — самый древний в мире. Или что комы — это медведи, поэтому правильно говорить «первый блин комам». Это неправда, и с такими мифами я стараюсь бороться.
Ресурс «Академос» будет полезен тем, кого интересуют современные тенденции русского языка, особенно изменения каких-то норм. Это официальный академический ресурс Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, где в первую очередь появляются все зафиксированные лингвистами новые нормы.
Сайт «Грамота-ру» — сюда дублируется информация из «Академоса», и здесь также много других актуальных хороших словарей. Есть сведения о том, как правильно говорить и писать, статьи, интервью с лингвистами, популяризаторами науки о языке.
Проект «Тотальный диктант» — я сама в нем несколько лет уже участвую. Это не только написание того самого диктанта раз в год, но еще и научно-популярные лекции, конференции, множество событий, связанных с темой языка и лингвистики.
Знания о психологии и работе мозга, которые помогут выжить в этом безумном мире, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_dopamine