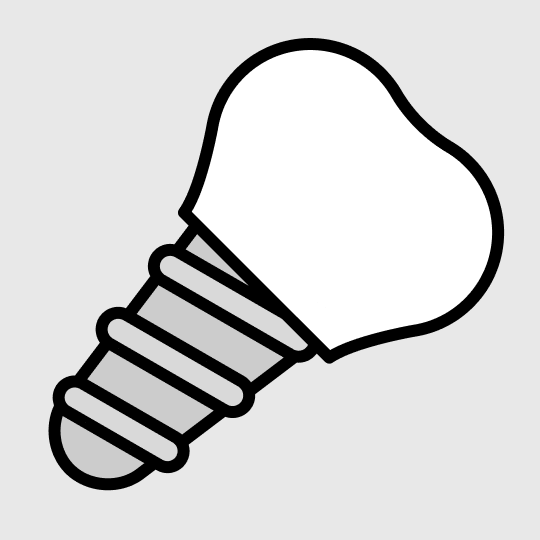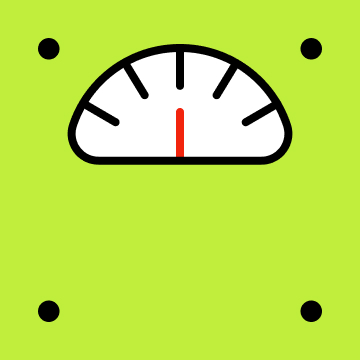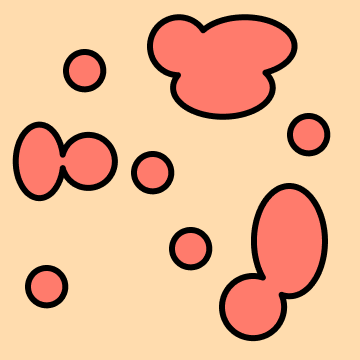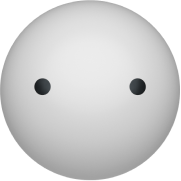Вспомнить нельзя забыть: терапия ПТСР
Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторская орфография и пунктуация. Описанный опыт — личный и не является медицинской рекомендацией
Травматические воспоминания парадоксальны — с одной стороны, они настолько яркие, что буквально погружают человека в события, порой очень отдаленные по времени.
С другой — очень разрозненные и непоследовательные, их трудно собрать в какую-то историю, даже когда человек находит в себе силы не бежать от них, а пытается реконструировать.
О Сообщнике Про
Психиатр, нарколог. Работаю с расстройствами личности, настроения, сна, расстройствами шизофренического спектра, тревожными, соматоформными и диссоциативными, а также с химическими зависимостями и нейроотличиями. Веду телеграм-канал «Ильин канал».
Это новый раздел Журнала, где можно пройти верификацию и вести свой профессиональный блог.
Прибегая к аналогиям, можно сказать, что травматическое воспоминание это такой битый файл — он и не полон и не имеет информации о времени создания, что не позволяет привязать его к какой-то главе автобиографии и там и оставить — он каждый раз будто бы создается заново.
Говоря специальным языком, возникает частичная амнезия на фоне снижения уровня абстрактности (обобщенности) и значительного повышения сенсорного (т.е. образного) и эмоционального их содержания и утрата или значительное снижение способности помещать воспоминания о травме в хронологический контекст.
Мы не будем уходить глубоко в дебри физиологии формирования воспоминаний, но поговорим о ключевых моментах. Мозг практически полностью включен в работу с памятью, но в контексте ПТСР нам интересны лимбическая система (включая амигдалу — «орган страха»), лобная кора, а также т.н. гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось (ось HPA) — структура нейроэндокринной регуляции.
Ось HPA непосредственно регулирует реакции мозга на стресс посредством кортизола, и аномалии этой регуляции во многом обусловливают патологии таких реакций.
При ПТСР мы наблюдаем пониженный уровень кортизола в ответ на стресс, что, по-видимому, и приводит к нарушениям в процессе консолидации (переносу воспоминания из кратковременной в долговременную память), что и делает травматические воспоминания дезорганизованными и фрагментарными. Этим и объясняется эффективность применения глюкокортикоидов в профилактике ПТСР.
Лимбическая система ответственна за эмоциональное наполнение воспоминаний, а лобная кора — за их вербализацию и декларативность (превращает образы и впечатления в текст, что позволяет работать с воспоминанием на высоких уровнях обобщения).
При ПТСР мы наблюдаем два противоположно направленных нарушения в этих системах — с одной стороны, при актуализации воспоминаний (например, в ответ на триггер) подавление лобной коры при чрезмерной активности лимбической системы приводит к явлениям повторного переживания (а также — хронической бдительности, свойственной людям с ПТСР).
При этом параллельно возникает попытка избыточно регулировать и подавлять эмоции, что клинически проявляется отстраненностью, притуплением эмоциональных реакций, с другой стороны — дереализации, т.е. к тем самым диссоциативным симптомам.Именно этот порочный круг дисрегуляций и приводит к тому, что травма становится хронической.
Как мы можем повлиять на эти механизмы фармакологически? Помимо упоминавшихся выше глюкокортикоидов некоторое время возлагались надежды на пропранолол — b-адреноблокатор. Считается, что пропранолол способен блокировать реконсолидацию, т.е. перезапись памяти, поэтому обоснование у препарата было сильным.
Но, судя по всему, его эффективность в терапии и профилактике ПТСР невысока, если вообще есть. Совсем недавно исследователи нашли интересную мишень для таких воздействий, а именно эдоканнабиноидные рецепторы. Мы расскажем об этом подробнее отдельным постом.
А пока предлагаем пройти международный опросник травмы ITQ, и напоминаем — не ждите, пока вас вылечит время, иногда оно может и добить.