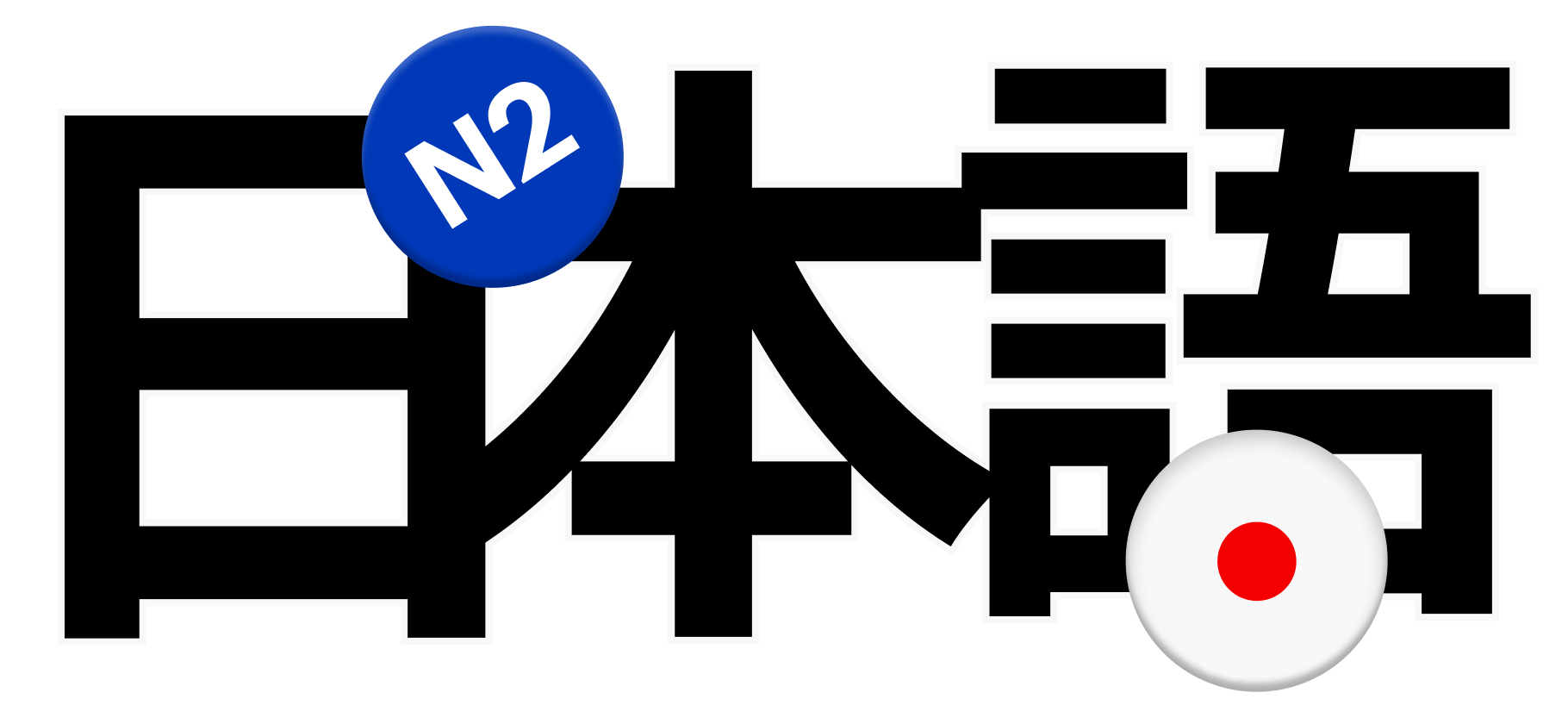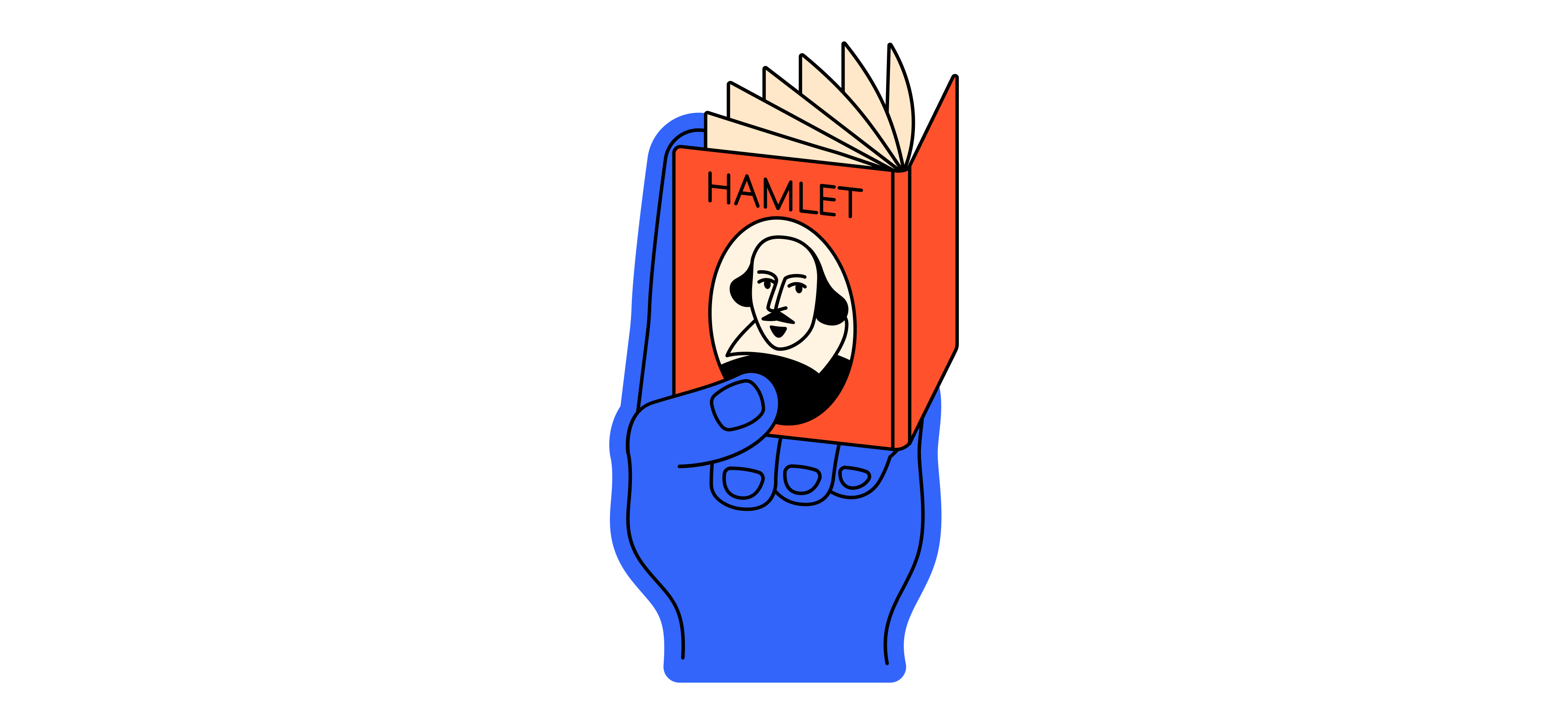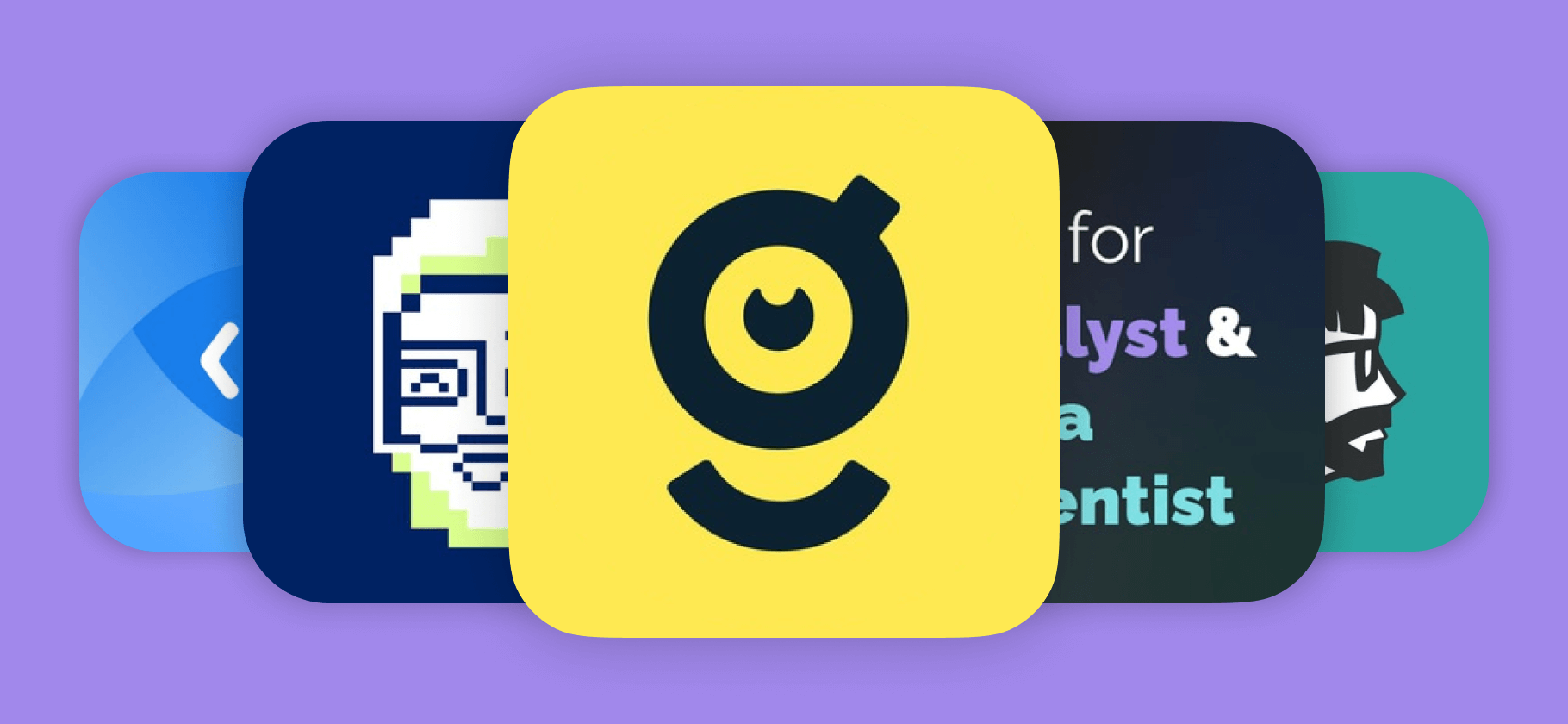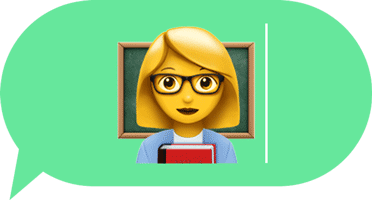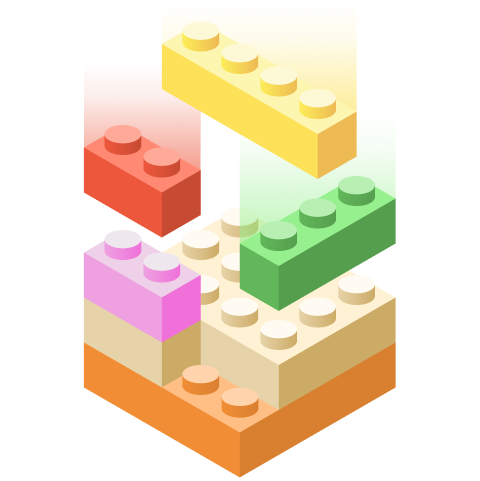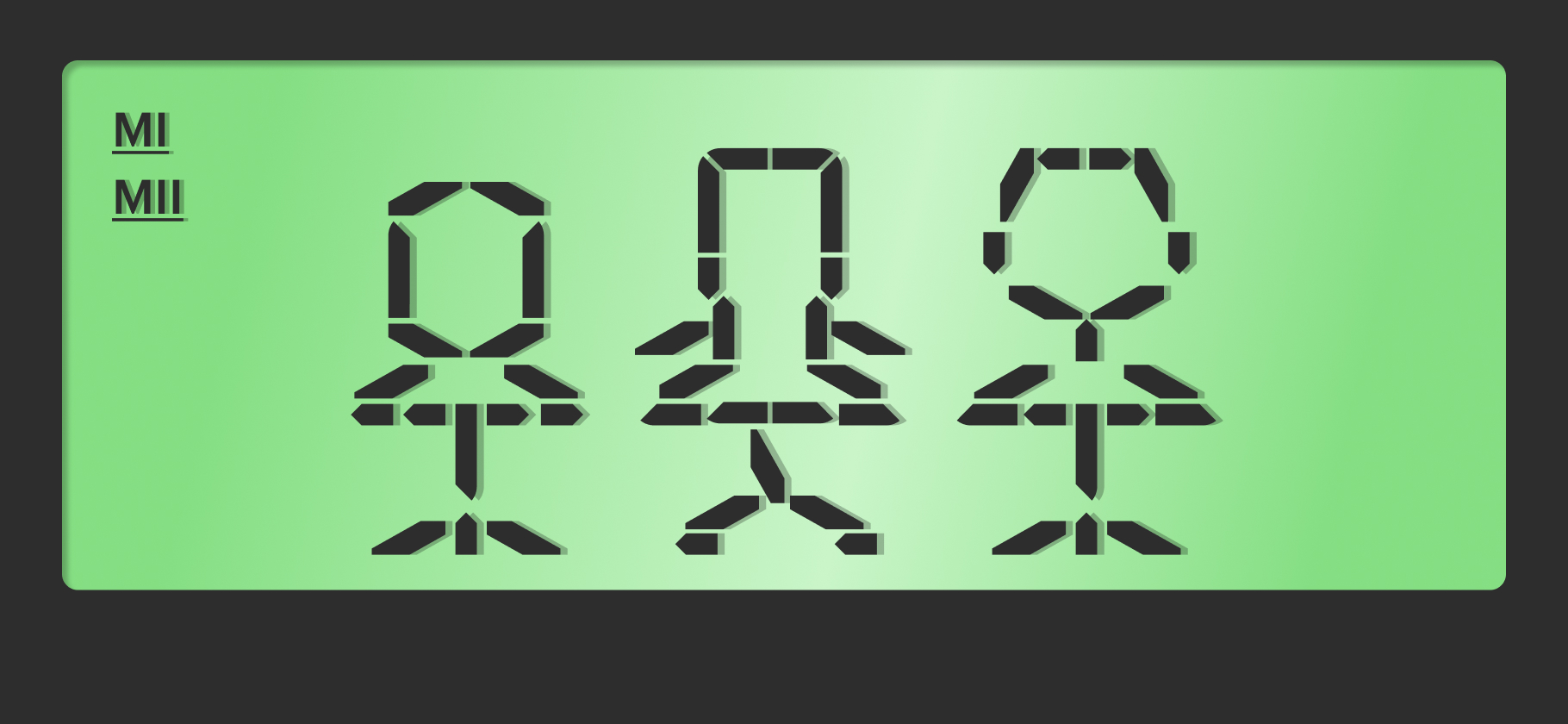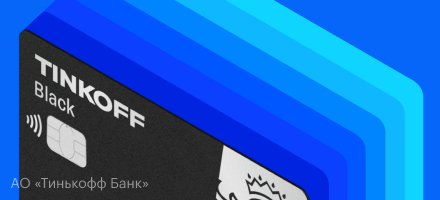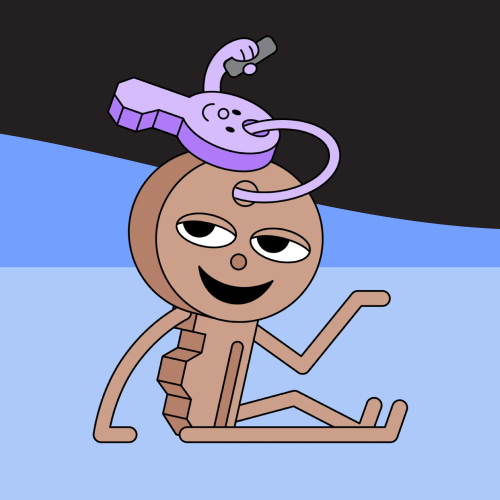Я вернулась из Москвы в родное село и счастлива: преподаю в школе и восстанавливаю старинный особняк
Я родилась в небольшом селе Заозерье в Ярославской области и с подростковых лет мечтала уехать оттуда.
После колледжа перебралась в Москву и, когда меня спрашивали, откуда я, отвечала: из Углича. Объясняла себе, будто так понятнее: про город многие знают благодаря сыру . Но после призналась себе: я просто стеснялась говорить, что я из деревни.
Через два года в столице я вернулась на малую родину. Теперь преподаю в школе, много путешествую и сама стараюсь привлечь в село туристов. С местными краеведами создала Музей купеческой предприимчивости и вместе с братом реконструирую особняк 19 века, чтобы открыть в нем отель. Расскажу, каково преподавать классу с четырьмя учениками, чем уникальна история моего села и как мне помог режиссер Никита Михалков.
Кто помогает
Эта статья — часть программы поддержки благотворителей Т—Ж «Кто помогает». В рамках программы мы выбираем темы в сфере благотворительности и публикуем истории о работе фондов, жизни их подопечных и значимых социальных проектах.
В сентябре и октябре рассказываем о доступе к образованию. Почитать все материалы о тех, кому нужна помощь, и тех, кто ее оказывает, можно в потоке «Кто помогает».
Хотела стать стюардессой, но вернулась в родное село
Я родилась в Заозерье в 1988 году. Как и у всех деревенских детей, у меня было веселое детство и много свободы. Но с подростковых лет я начала стесняться, что живу в селе.
Моей лучшей подругой была москвичка, которая приезжала на дачу на лето. Она рассказывала, как ездила с классом в автобусный тур по Европе, и я завидовала: мы выбирались разве что в Углич. Я фантазировала, как вырасту и тоже буду везде путешествовать.
Я мечтала уехать из Заозерья и представить не могла, что свяжу с этим местом и родной школой свою жизнь.
Я поступила в колледж в Угличе на учителя английского, хотя не собиралась преподавать: подумала, что язык пригодится. Доучилась и в 2008 году переехала в Москву. Чтобы знания не пропали зря, решила пойти работать стюардессой.
Отучилась два месяца и успела посидеть за штурвалом самолета, но после нас уволили: компания была убыточной. Я была очень огорчена. Чтобы остаться в Москве, устроилась продавцом в мебельный салон.
Я рассчитывала, что в столице меня ждут интересные встречи и знакомства. Но на это совсем не оставалось времени. Я добиралась на работу по полтора часа в один конец и жалела, что моя жизнь проходит бесцельно. Мебельный салон тоже не был рабочим местом мечты.
К 2010 году я поняла, что Москва мне не подходит. Решила уехать на время в Заозерье, а после перебраться в другой крупный город. Этот выбор дался мне тяжело. Я переживала, что меня будут осуждать: «Алена чего-то там хотела, а не получилось!» Разве объяснишь односельчанам, что я просто поняла: Москва — не для меня. Правда, в открытую мне все равно никто ничего подобного не сказал.
По возвращении я встала на биржу труда, и меня пригласили в местную школу учителем английского. Я согласилась: думала, что поработаю годик, а после перееду.




Преподаю в школе, где учатся 40 детей
Вернуться в родную школу в роли учителя было странно. С молодыми коллегами я сразу перешла на «ты», а со своими бывшими преподавателями до сих пор на «вы». В первое время мне пришлось непросто: в колледже не давали многих знаний, необходимых для работы.
Так, во время обучения мы анализировали, как вести себя в сложных ситуациях. Разбирали гипотетические примеры: скажем, заходишь в класс, а все дети сидят под партами. Но с разобранными трудностями на практике я не сталкивалась никогда.
Зато возникали другие. Так, я не знала, как вести себя, когда ребенок пытался сорвать урок. Сначала я повышала голос, а потом поняла, что хулигана просто нужно занять, — и стала давать легкие индивидуальные задания.

Долгое время старалась идти строго по учебнику. Не понимала, почему дети не справляются с заданиями на уроке и не выполняют домашнюю работу, а им просто было тяжело. Облегчать задачи я не хотела: боялась, что тогда ребята ничему не научатся. В итоге не видела результата, и работа не приносила радости.
С опытом пришло понимание: говорить с пятиклассниками и одиннадцатиклассниками надо по-разному. Помогла и племянница: она училась у меня со второго класса и к третьему рассказала, что тоже не понимает меня. Я стала объяснять все как можно проще и давать посильные задания. Вскоре это принесло плоды, и я полюбила свою работу.
В 2012 году я поступила в Московский педагогический государственный университет на учителя истории. Хотела получить высшее образование, а на этом направлении было заочное отделение. Кроме того, начала интересоваться предметом благодаря своей учительнице истории Татьяне Волковой, которая стала моей коллегой. В 2015 она уволилась, и теперь я веду занятия по истории и обществознанию.
На 2025 год у нас в школе работают 11 педагогов и занимаются 40 детей — в три раза меньше, чем когда училась я. В одном из классов всего четыре ученика. А бывает, ребенок всего один — тогда формируем класс-комплект : например, вместе обучаются пяти- и шестиклассники. Приходится лавировать: объяснять материал одним, пока другие делают задания, — и это непросто. Зато благодаря тому, что учеников мало, удается найти свой подход к каждому.
Я стараюсь, чтобы школьные знания были актуальными. Например, на занятиях по экономике из курса обществознания предлагаю старшеклассникам составить семейный бюджет. Узнавать реальные расходы и доходы родителей некорректно, поэтому прошу подростков пофантазировать: кем они будут работать, сколько у них будет детей, где они станут жить и на что тратить деньги. А когда изучаем основы маркетинга и менеджмента, ребята придумывают свои фирмы.
Когда говорю об исторических событиях, ввожу их в современный контекст: например, поясняю, какие страны находятся на месте средневековых. В этом помогает опыт путешествий: во время разговора о Великом Новгороде — показываю снимки Софийского собора, о Константинополе — привезенные из Стамбула фотографии и открытки.
В детстве я думала, что деревенские не путешествуют. Но мне удается это делать даже на зарплату сельского учителя: сначала я получала 6 000 ₽, а в 2025 году — около 50 000 ₽. Также мне оплачивают расходы на электричество и на дрова — я живу в доме, оставшемся от мамы.
Я умею путешествовать дешево: сама составляю маршруты, ищу бюджетные авиабилеты. Была во многих городах России, посетила Беларусь и Грузию. Также уже шесть раз ездила в археологические экспедиции на Таманский полуостров — участвую в раскопках древнегреческого города Патрей.
Оттуда привезла фрагменты древнегреческих амфор, которые показываю на уроках. Дети удивляются, что на них какие-то волосинки, а это водоросли с морского дна. Предлагаю ученикам отодрать лак, чтобы убедиться, какое прочное изделие изготовили древние греки: ни у кого не получилось.
Одна ученица вдохновилась рассказами о раскопках, вместе с подругой взяла металлоискатель ее отца и стала искать в огородах старинные монеты. Они обнаружили свинцовую пробку от рижского бальзама конца 19 века. Я предложила сделать описание находки и отправить на региональный краеведческий конкурс — девочка заняла второе место.
Не стала бы работать в городской школе
Мои школьники — очень разные. Кто-то успешно поступает в вуз и получает красный диплом, но многие отдают приоритет заработку. Часто ребята с ранних лет за деньги помогают дачникам, которые приезжают в Заозерье на лето, а после выпуска идут в колледж или сразу начинают работать.
Раньше у меня, как и у многих преподавателей, была установка: нужно сделать так, чтобы мой предмет всем понравился. Но невозможно у каждого пробудить интерес к истории или языку. Теперь я внутренне определяю уровень, которого может достичь каждый ребенок: одним достаточно знать основы, а другие идут в глубину.
На мой взгляд, главная задача учителя — дать не только знания, но и правильные установки в жизни. Важно, чтобы ребенок осознавал себя частью общества и понимал: нужно думать и о других.
Я уверена: смысл появляется, когда ты что-то делаешь во благо своего окружения.
Иногда на уроках мы говорим за жизнь. Некоторые подростки заявляют, что деньги — это главное. Я привожу в пример себя: я счастлива, хотя и не богата, ведь у меня есть дело жизни, прекрасные друзья и родственники. В таких обсуждениях активно участвует весь класс, и многие выступают на моей стороне. Конечно, подросток никогда не признается, что поменял мнение, чтобы не потерять авторитет, — но, думаю, мне все же удается посеять зерна сомнений.
Я люблю свою работу за то, что она держит меня в тонусе. Мне важно постоянно узнавать новое и следить за трендами, чтобы наладить контакт с учениками. А еще сельские учителя часто выступают в роли психологов и поддерживают в трудных ситуациях — в конфликтах с одноклассниками или с родителями.
Я сравниваю своих учеников с городскими, когда мы ездим на олимпиады или соревнования, и прихожу к выводу, что они добрее и строже соблюдают социальные рамки. Например, наши дети не позволяют себе ругаться матом при взрослых, а еще ученики разных классов дружат несмотря на возраст.
Думаю, дело в том, что в селе все друг у друга на виду. Например, на пункте выдачи Ozon работают мои ученики — и они всегда спросят, как у меня дела. Работать в городской школе я бы не стала.




Создала Музей купеческой предприимчивости
Вскоре после переезда в Заозерье я поняла, что мне здесь нравится. Я влюбилась в ощущение свободы. В городе она заканчивается в стенах квартиры, здесь же можно добежать до соседской бани в халате и с полотенцем на голове. Идешь ночью — звезды светят, совы кричат… А утром просыпаешься от пения птиц в саду.
Во взрослом возрасте я до конца осознала, насколько крута моя малая родина. Село впечатляет своими размерами — кажется, будто это провинциальный город. В первой половине 19 века его приобрела Ольга Михайловна — мать Михаила Салтыкова-Щедрина. Сам писатель с детства часто здесь бывал, и село фигурирует во многих его произведениях. Так, в «Пошехонской старине» есть целая глава «Заболотье».
Заозерье всегда было зажиточным, и в начале 20 века его даже хотели признать городом, но помешала революция. Зато статус села позволил сохранить исторические названия улиц: Волхонка, Ваганьковская, Кузнечная… В советское время у нас работал колхоз, который гремел на всю округу. Но в 2006 году он обанкротился, и сейчас в Заозерье живет около 350 человек, а летом, с учетом дачников, — до 1 000.
Чем больше я углублялась в историю села, тем больше поражалась: такое богатое прошлое есть не у каждого города! Мне стало обидно, что место с такой историей несправедливо забыто, — и я решила это исправить.
Первым шагом стал спецвыпуск журнала «Углече поле» , целиком посвященный Заозерью. Его мы подготовили в 2016 году вместе с местным краеведом Сергеем Антипаевым, моей учительницей истории и еще несколькими единомышленниками. Статьи посвятили разным периодам жизни села. Деньги привлекли с помощью краудфандинга — около 200 000 ₽, остальные расходы покрыли за счет продаж журнала.
После я и краеведы задумались о создании музея. Идея витала в воздухе: односельчане ностальгировали по сельскому учреждению, которое расформировали в 90-е. Еще был школьный музей «Истоки», но туда не пускали посторонних и он рассказывал про прошлое России в целом, а не самого Заозерья.
Мне же хотелось не сделать обыкновенную краеведческую экспозицию со старыми вещами, а показать кусочек истории именно моего села.
До революции в Заозерье всегда кипела торговля, и на его главной площади регулярно проходили ярмарки. Даже школа у нас появилась рано , в 1866 году, благодаря развитому предпринимательству.
Так родилась идея посвятить музей «маякам» — этим словом в наших краях называли мелких перекупщиков, которые приобретали товар оптом и перепродавали в розницу на соседних базарах. Свое прозвище они получили за то, что вечно маячили в разных местах. Из-за этого у слова даже появилось еще одно значение в словаре Даля: «переторговывать».
«Маяки» были смекалистыми ребятами и находили способ купить товар по дешевке. Еще у них был свой жаргон, чтобы общаться скрытно: например, 20 копеек они называли «экимары», а «хантай» говорили, когда пора удирать.
В основу музея «Заозерские маяки» легли экспонаты «Истоков», но мы переформатировали экспозицию — что-то убрали, а остальное оформили в виде комнат: Дом купчихи, Дом купца, Дом маяка и чайная, где поили гостей чаем на травах.






Музей начал работать в 2017 году. Он разместился в старинном здании, где в разное время были волостной суд, земская управа, библиотека-читальня и детский дом. Когда я училась в школе, здесь находился интернат, где в течение недели ночевали дети из соседних поселков.
Гости оставляли хорошие отзывы и отмечали, что у нас душевно. Любопытно слушать истории об ушлых торговцах — это привлекает. Еще туристам нравился интерактив и то, что многие экспонаты можно трогать. Часто посетители желали развития, намекая на ветхость здания. Мы как могли создавали уют, но починить все своими силами было невозможно: помещения старые, туалет — дырка в полу.
В 2024 году администрация решила продать здание, чтобы новый хозяин отремонтировал его. Экспозиция занимает часть второго этажа, а в остальных помещениях можно будет открыть кафе, магазин сувениров или другой связанный с туризмом бизнес. Пока музей закрыт, а я надеюсь, что будущий владелец восстановит здание и позволит нам работать дальше.
Оживляю переписку столетней давности
В 2017 году заозерский почтальон передал мне около 500 писем, которые нашел на чердаке своей квартиры — он живет над почтовым отделением, работающим больше века. Все послания написаны в 1928—1929 годах людьми, которые уезжали из сел на заработки в Ярославль, Москву, Петербург и другие города.
Мы не знаем точно, как письма оказались на чердаке. Скорее всего, в те годы сотрудник почты вскрывал корреспонденцию в поисках денег и негашеных марок — их упоминали в некоторых посланиях. Другая, менее правдоподобная версия — политическая проверка: кто-то пытался узнать, что на самом деле думают крестьяне.
Я не знала, что делать с письмами, и убрала их в тумбочку дома. После о находке от знакомого узнал на тот момент главред «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук. Он предложил помочь, и вместе мы сделали проект «Непрочитанная почта».
Все письма отсканировали, расшифровали и изучили. Это заняло много времени: попадались нечитаемые почерки и дореволюционная орфография. В расшифровке участвовали и мои ученики. Один из них сделал на базе письма проект на краеведческий конкурс и взял первое место в Угличе и призовое в Ярославле.




После мы стали делиться историями из писем в соцсетях проекта и рассказывать через них о той эпохе. Сомневались, можем ли публиковать чужую переписку, — но пришли к выводу, что это этично, раз письмам почти 100 лет. Но договорились обойтись без «скандалов, интриг и расследований» вроде рассказов об изменах — а таких посланий тоже немало.
Кажется, за сто лет люди совсем не изменились: в письмах обсуждают погоду, моду и тусовки. Некоторые тексты очень трогают. Например, муж пишет жене: «Мне неприятно, что ты думаешь, будто я пишу тебе пьяным. Я пьян, когда думаю о вас».
Удивило, что все письма написаны в уважительном тоне. Даже если автор чем-то недоволен — скажем, возмущен, что его родные постоянно требуют денег, — он все равно передает всем привет в начале, а в конце обязательно сглаживает конфликт. Я объяснила это себе тем, что в современной переписке легко поссориться и быстро помириться, а наши предки так не могли.
В будущем хотим открыть Музей истории почты в ее здании, а письма станут главным экспонатом. Готовим заявку на грант Потанина . Пока не рассчитали точную сумму, но деньги нужны в первую очередь на оплату работы экспертов по созданию музеев. До этого уже выиграли президентский грант на 200 000 ₽ и приобрели конверты из бескислотной бумаги , где храним послания.
Собираюсь открыть отель в особняке в стиле модерн
В Заозерье сохранилось около двух десятков исторических зданий. Пожалуй, самое красивое — Дом со щуками, который принадлежал купчихе и хозяйке пекарни Устинье Раковой. Его построили в 1860 году, а медных щук на водостоках установил в 1970-х местный мастер. В советское время в доме была контора колхоза, а после его банкротства в 2006 здание пустовало.
Я не хотела, чтобы особняк погиб. Уговаривала друзей выкупить его, но они отказывались: деревянный дом требовал больших вложений. Наконец, убедила помочь брата, который живет в Москве. За Дом со щуками он заплатил 200 000 ₽, еще 50 000 ₽ — за прилегающий каменный гараж.




Сначала мы очистили особняк от мусора, в том числе от гипсокартона на потолке и стенах и советских перегородок, которые давали лишнюю нагрузку на несущие конструкции. Восстановили часть стены и потолок, сгнившие из-за протечек в крыше, починили балконы, веранду и крыльцо. Сделали септик и колодец, провели коммуникации — теперь в доме есть душ и туалет.
Телеканал НТВ выпустил репортаж о том, как я реконструирую дом. После незнакомка в соцсетях попросила мой номер телефона — сказала, что мне хочет помочь один человек. Во время школьного урока мне несколько раз позвонили со скрытого номера, и я не взяла трубку. На перемене наконец ответила — и услышала в трубке:
«Здравствуйте, я Никита Сергеевич Михалков». Сначала подумала, что мошенники совсем обнаглели.
Но оказалось, что мне и правда звонил режиссер: он увидел репортаж и попросил помощницу со мной связаться, чтобы предложить мне 1 000 000 ₽ на восстановление дома. Я сразу же решила потратить деньги на починку крыши. Теперь всем говорю, что у меня крыша от Михалкова.
Мы ремонтируем дом своими руками вместе с братом — он инженер. Иногда помогают друзья и знакомые. Для сложных работ вроде крыши или восстановления печи привлекаем мастеров.
На реконструкцию уже потратили больше 2 000 000 ₽. Кроме поддержки Михалкова еще 530 000 ₽ собрали через краудфандинг. Также я провожу экскурсии по Заозерью для туристов — фиксированную оплату не беру, а прошу пожертвовать любую сумму на восстановление особняка. Остальное дал брат: он тоже уже влюбился в Дом со щуками.
В будущем хотим превратить Дом со щуками в бутик-отель. Я надеюсь, что сможем завершить работы и открыть его к 2030 году. Отель не только станет нашим с братом источником дохода в старости, но и привлечет в Заозерье туристов.
Пробудила в местных жителях любовь к родному селу
Я долго мечтала, чтобы Заозерье попало в Ассоциацию самых красивых деревень России. У нее высокие требования к претендентам: от развитой инфраструктуры и инклюзивности до местных праздников. Мы постарались сделать то, что могли: например, запустили продажу сувениров и открыток.
Я переживала, что нам еще нужно дорасти, но в 2021 году в администрации предложили попробовать. Я составила заявку, и они подали документы. Заозерье посетил президент организации. Он сказал, что предстоит еще многое сделать, но у нас есть потенциал. В итоге село все же признали достойными Ассоциации, чем я очень горжусь.
Благодаря нашим с единомышленниками усилиям в Заозерье стали ездить тургруппы и путешественники. Рекорд за сезон — 300 человек, это большое для нас достижение. Некоторых смущает, что многое в селе еще требует ремонта, но мы общаемся с гостями искренне и даем все возможное. В итоге все уезжают с хорошими впечатлениями.


Вначале односельчане скептически относились к моей деятельности и говорили: «В Заозерье одна разруха, на что тут смотреть?» Но после того, как к нам стали приезжать туристы и фотографы, местные жители обнаружили: «Оказывается, у нас село-то такое красивое!» Я счастлива, что мы добились этого перелома в их сознании.
У администрации тоже проснулись амбиции: уже идут разговоры, чтобы починить дорогу и провести газ. В 2025 году власти подготовили замечательный проект благоустройства исторической площади и подались на федеральный грант. В этот раз им отказали, но уверена, что в следующем году все получится.
В мае 2025 Заозерье признали историческим поселением. Я ликовала!
Хочу, чтобы мое село развивалось и благоустраивалось, чтобы сюда приезжали жить, а в школе училось много детей. Верю, что моя работа помогает в этом.
Мечтаю, как в будущем в селе появятся несколько гостиниц, включая мой «Дом со щуками», заработают Музей купеческой предприимчивости и Музей писем. Когда-нибудь хочу открыть бар — назовем его «Картуз» или «Заозерский целовальник» . Но главное, чтобы это не мешало местным жителям: не хочу, чтобы Заозерье стало туристическим в плохом смысле.
Я совсем не жалею, что вернулась на родину. Здесь у меня появился смысл жизни, и я ощущаю себя счастливой.